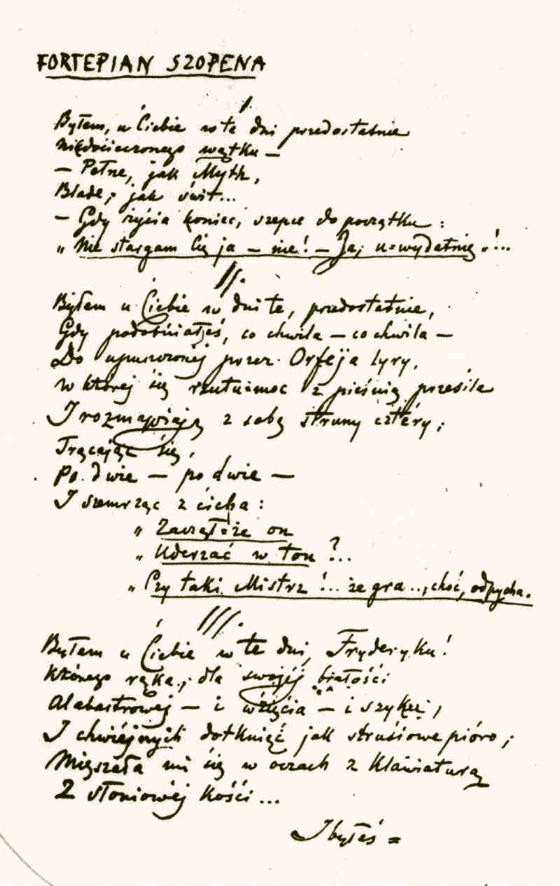Удивительно талантливый поляк, который сумел проявить своё дарование не только в поэзии, но ещё и в драматургии и изобразительном искусстве. В 1846 году был заключён в тюрьму прусским властями. После того, как срок заключения закончился он перебрался в Париж. Некоторое время начиная с 1852 года жил в Америке, а потом вернулся в Америку. Ему довелось жить в одно время с Мицкевичем, Словацим и Шопеном. Основой его мировоззрения стала идея о том, что на общество и его устройство можно повлиять с помощью искусства. Многие сумели оценить его как оратора, декламатора, художника, но только единицы видели в нём талантливого поэта. В его творчестве яркое выражение нашёл интерес к человеку. Наиболее примечательным в его творчестве стал цикл "Vade mecum" (1865-66), в рамки которого вошёл шедевры Норвида «Рояль Шопена» и «Вещь о свободе слова». Однако очень грустно то, что вся эта лирика стала известна позднее, после смерти поэта. Конец жизни проходил в ужасной нищете, начиная с 1877 года он даже жил в приюте Парижа. Смерть наступила в 1883 году, ровно через 5 лет его останки были перенесены на Монморанси, где он был погребён в общей могиле. Печально что такая трагичная судьба была у поэта, которого ставят в один ряд с Мицкевичем и Словацким. Большинство его произведений дошло до нас фрагментами и в рукописях.
Биография Циприан Камиль Норвид происходил из обедневшего шляхетського рода. Родился 24 сентября 1821г. в деревне Лясков -Глухи (около Варшавы, на Мазовше) где до настоящего времени стоит сельский дом, построенный его дедом со стороны матери -Зджеборовским. Дом представляет собой постройку 18 в. с крыльцом на деревянных колоннах, увенчанным треугольным фронтоном и четырехугольной крышей, крытой гонтой. Отец его, Ян происходил из шляхетського рода герба Топур (Topor). Мать, Людвика Зджеборовская, состояла в кровном родстве с королевской вервью рода Собеских. Мать умерла рано, когда Норвиду было четыре года, (отец Ян умер в тюрьме, заключенный за неуплату долгов, когда Норвиду было четырнадцать). После смерти матери воспитывался своей прабабкой Хиларией Зджеховской из рода Собеских. В 1830г., после смерти прабабки и вспышки польського восстания, Ян Норвид с детьми переезжает в Варшаву. Вместе со своим старшим братом Людвиком (поэт) он учился в Варшавской гимназии в 1831-1832 и 1834-1837 годах*. Уже в ранней молодости Норвид проявляет интерес к литературе и живописи. Не окончив пяти классов, он прервал обучение и вступил в частную школу живописи Александра Кокуляра, а позже в художественную мастерскую Яна Минасовича. В более позднем периоде он пытался заполнить недостаток в образовании, накапливая знание в различных областях, часто очень беспорядочно. Также его обучение в области живописи и скульптуры, несмотря на устойчивость традиций крупных художников Ренессанса, имели характер хаотических и случайных поисков. Как поэт дебютировал в 1840 г. лирическим стихотворением «Мой последний сонет», напечатанным анонимно на страницах Варшавских газет. Осенью 1841г., сопровождаемый Владиславом Вежиком, он совершает поездку вокруг Польского Королевства. В то время такие путешествия были широко распространены в среде молодого творческого поколения, движимые романтическими идеями и жаждой познания, они нередко захаживали в сельские дома, изучали жизнь и обычаи местного люда. Вторая поездка состоялась в 1842г. в сопровождении Антония Чайковского, которому он со временем посвятит свой знаменитый «Фортепиан Шопена». В сентябре 1842г. он выезжает за рубеж, и больше уже никогда не возвращается на родину. Путешествуя по Европе, Норвид посетил Дрезден, Нюрнберг, Мюнхен, Верону и Флоренцию. Во Флоренции он записался в отдел скульптуры Академии Искусств. Он также посетил Неаполь и Рим. В 1845 в Риме, в костеле св.Клавдия, который в то время выполнял роль польского костела в Риме, взял себе второе имя Камиль (относящийся к римскому вождю Маркусу Фериусу Камилласу) теперь он подписывал свои работы "Циприан Камил Норвид", подчеркивая этим способом своё фиктивное "римское происхождение". По другой, более вероятной версии, имя Камиль он берет в память о своей первой юношеской любви. Её звали Камилия Л., Норвид был обручен с ней, но по прошествии некоторого времени она в письме разрывает с ним помолвку. В 1845г. во Флоренции он познакомился с Марией Калергис и ее подругой Марией Трембицкой. Он влюбился в мисс Калержи. Это была особа, сводившая с ума многих современников: Листа, Шопена, Готье. Знаменитая красавица, "немка по происхождению, гречанка по мужу, русская по воспитанию, полька по национальности матери и влечению сердца" была воспета многими поэтами. Теофиль Готье писал о ней в "Эмалях и камеях", Гейне воспел Марию Калержи в "Романсеро", русский поєт и переводчик Павел Козлов, посвятил ей романс "Когда б я знал...". Роман Норвида с Марией Калержи продолжался всего около полутора лет, в 1842-1844 годах, но ей посвящены многие стихи, написанные поэтом и позже, полные воспоминаний о ней, любви и отчаяния. В товариществе любимой женщины и её подруги совершает путешествие через Италию в Берлин. Точно так же как его предыдущие поездки вокруг страны, эта поездка имела познавательно-образовательный характер; поэт мог посетить самые известные города Европы того времени (Помпею, Сорренто, Капри), поднимался на вершину Везувия. Наконец, пересекая Силезию, он достигает Берлина, где 10 июня 1846г. был арестован прусскими властями. ( Покидая Польшу, он отдал свой заграничный паспорт одному из друзей, бежавшему из-под ареста. По требованию российского посольства Норвид был задержан и заключен в берлинскую тюрьму. В тюрьме он оглох. Позже, во время франко-прусской войны, когда пятидесятилетний поэт записался во французскую армию, эта глухота помешала ему защищать Париж.) В конце июля, после освобождения, перебирается в Брюссель и позже в Рим. Здесь он встречает Адама Мицкевича и завязывает дружбу с Зигмунтом Красинским. В мае 1848г., Норвид берет аудиенцию у Римского папы Пиуса IX, путешествует по Средиземному морю. В 1849г. он прибывает в Париж, где встречает Юлиуша Словацкого, Фредерика Шопена и Богдана Залесского. Также знакомится с русскими писателями -Тургеневым и Герценом. Он принимает участие в деятельности эмигрантских организаций, но его общественные речи не пользуются абсолютной поддержкой. Его финансовая ситуация стремительно ухудшалась. Если раньше он полагался на денежную поддержку от Зигмунта Красинского и Августа Чешковского, то в 1851г. в связи с назревшим конфликтом с Красинским, Норвид возвращает назад его письма и 29 ноября 1852г. прибывает в Лондон, чтобы через океан добраться в Нью-Йорк. Долгий двухмесячный переезд был тяжелым и мучительным, сопровождавшийся голодом и эпидемией холеры. В Нью-Йорке он работает графиком в мастерской при организованной Всемирной выставке. Но с каждым днем его материальное положение становится ещё более безнадежным, что вынуждает его покинуть Америку, и 24 июня 1854г. отправиться обратно в Европу. В декабре 1854г. он возвратился в Париж, который не покидал уже до конца жизни. Он столкнулся с ещё большей бедностью, к тому же прибавляются конфликты с друзьями, причиной которых стала глухота поэта. В феврале 1877г. он был вынужден перебраться в Иври в приют св.Казимира, предназначенный для польских сирот и ветеранов. Умер ночью во сне с 22 на 23 мая 1883г. от туберкулеза. Сразу после смерти, его комната была убрана и сожжены все бумаги и рукописи, собранные в столе. Он был похоронен на кладбище в Иври, но по истечении пяти лет, его прах был перезахоронен в общей могиле безвестных польских эмигрантов на кладбище Монморанси.
http://norwid.narod.ru/biograf.htm
Стихи Перевод с польского и вступление А. Гелескула Последний из могикан Циприан Норвид родился осенью 1821 года и рано осиротел: в четыре года лишился матери, в четырнадцать - отца, в двадцать - родины. Его дальнейшая жизнь, обильная впечатлениями и невзгодами - скитальческая жизнь эмигранта, гражданина мира без прав гражданства, - оборвалась в 1883 году в парижском предместье Иври, в приюте св. Казимира для престарелых и неимущих польских изгнанников. Большинство стихов Норвида остались в рукописи, многие увидели свет лишь в двадцатых и даже тридцатых годах следующего века. В России Норвида переводили эпизодически, пока в начале 70-х не вышел в издательстве “Художественная литература” его небольшой сборник. Среди переводчиков были Леонид Мартынов, еще не запрещенный Владимир Корнилов и уже запрещенный, но замаскированный чужой фамилией Иосиф Бродский. Однако львиную долю стихов, определившую облик книги, перевел Давид Самойлов. Видимо, Норвид дался ему непросто. Однажды, задолго до выхода книги, в общем разговоре он неожиданно спросил: “Что мне делать с Норвидом?” Я был довольно молод и достаточно глуп, чтобы ответить не задумываясь: “По-моему, поляки переоценивают Норвида”. “Да нет, - вздохнул Самойлов, - не переоценивают”. Для ответа у меня были свои резоны, подсказанные ревностью. В ушах уже навязла расхожая фраза о том, как Польша с опозданием в полвека открыла для себя поэта-визионера, польского Лермонтова. Простите, но судьба поручика Нижегородского гусарского полка Михаила Лермонтова была иной - и тоже через полвека Лев Толстой сказал: “Если бы этот мальчик не погиб, не понадобились бы ни я, ни Достоевский”. И “открывать” Лермонтова не пришлось. Да, Норвид много скитался, бедствовал и, случалось, голодал. Случалось, бедствовал и Пушкин, но странствиям Норвида он мог бы, наверно, позавидовать. Адриатические волны, О Брента! нет, увижу вас… Не увидел. А Норвид бороздил эти волны, и не однажды, повидал Грецию, исколесил Италию и чуть ли не всю Европу и даже побывал в Соединенных Штатах. Это вам не путешествие в наспех отвоеванный Эрзерум. Понятно, какие чувства бродили во мне, когда отвечал Самойлову. И как-то выпадало из сознания, что Норвид, столько перевидавший, так и не увидел родину. Биографическая подробность: покидая Польшу, он отдал свой заграничный паспорт одному из друзей, бежавшему из-под ареста. По требованию российского посольства Норвид был задержан и заключен в берлинскую тюрьму. В тюрьме он оглох. Позже, во время франко-прусской войны, когда пятидесятилетний поэт записался во французскую армию, эта глухота помешала ему защищать Париж. Величайший, в моем понимании, польский поэт - Фредерик Шопен - тоже не вернулся на родину, но музыка - это музыка. И у нее есть почва и свои границы, но ее таинственная природа универсальна, и все мы, лучше, или хуже, или кое-как, читаем ее иероглифы. Слово - черный значок на белом фоне - иной природы, и растет оно не столько из речи, сколько из земли, вбирая ее соки и облик. Драма поэтов-эмигрантов не в отрыве от живого и переменчивого языка. И речь не о сентиментальной привязанности к родным местам. Мазовше, где Норвид родился, не рай земной и не Венеция, которую он так любил. Скитальческая судьба Норвида дала размах его крыльям, дальнозоркость и широту кругозора, но в чем-то насущном обездолила и, может быть, обескровила его дар. Его поэзия стала бесплотней, чем обещала быть. Мицкевич покинул родину зрелым художником, уже запечатлевшим не только ее воздух, леса и озера, но и тоску по ним. Все это он унес с собой, и земное тепло по-прежнему согревало его стих, как ток живой крови. Иная судьба у Словацкого: свой огромный огненный дар он сузил до блеска рапиры - и вдел отточенный клинок в ножны, на будущее. Оружие пригодилось. В годы фашистской оккупации молодые поэты, вчера - школьники, сегодня - подпольщики и партизаны, повторяли: “Есть лишь один польский поэт - Словацкий”. Так думал и погибший в первые дни варшавского восстания юный Бачинский, надежда польской поэзии - “второй Словацкий”, как называли его соратники. Время Норвида пришло позже. Его открыли на рубеже веков польские символисты, но не они стали его наследниками. Мне кажется, вся послевоенная польская поэзия рождалась и росла в его незримом присутствии. Это заметно не только по нобелевским лауреатам - Шимборской и Милошу, - но по многим и многим, таким несхожим поэтам, как Гроховяк и Херберт. И наследовалось они то, что отчасти сближает Норвида с Лермонтовым, - “стих, облитый горечью и злостью”. Горечи и злости у Норвида в избытке. Но в одном из последних его стихотворений, написанных в приюте для неимущих и о самом приюте, есть строки: “Все на земле проходит, остаются лишь поэзия и доброта - и только они”. Сейчас, пытаясь переводить Норвида, я ничего не мог бы ответить Самойлову, но зато мне понятней вопрос. Норвид необычен. Все подлинные поэты необычны, но схожи в одном - в летучей стремительности слова, по которой мы и отличаем поэзию от прозаических подробностей. Речь не о жанрах; ощущение настигшей стрелы возникает и при чтении Льва Толстого или Андрея Платонова. Поэзия - всегда стрела, она вонзается в сознание, и мы постигаем ее, даже не успев понять. И стихотворение издревле, исконно - это всегда стрела, оперенная или нет, отточенная или едва оструганная, но стрела, посланная в цель, а чаще - на поиски цели. Это роднит и окончательный, афористичный стих Баратынского и запечатленный в муках рождения стих Цветаевой. Аскетичная поэзия Норвида питается мыслью, порой она перенасыщена мыслью, но почти всегда это мысль в ее зарождении: брошенная неостывшей, она словно ищет себя в буреломе сомнений и тупиков. Иные стихи его прямо-таки ощетинены антиномиями, как иглами, и не даются в руки. В одной из поэм Норвида есть выразительное сравнение: мысль - как непросохшая картина; она закончена, но трогать ее нельзя. До поры до времени. Вместо рассуждений о том, насколько причудлива и насколько прозорлива норвидовская мысль, мне хочется привести целиком его последнее, предсмертное стихотворение в переводе Давида Самойлова: Как славянин, когда не знает, где учиться,
Мечтает средь полей, как жить на свой манер, -
А где-то вдалеке купец в вагоне мчится,
И телеграф стучит, и реет монгольфьер;
Как славянин, что все уже прошел дороги,
Ждет самовитости, без знанья, от души -
Вот так печальна жизнь!.. Товарищи, пророки,
Крестьяне, шляхтичи, евреи, торгаши! Так камень на меже лежит, забыв про сроки,
А прежде штурмовал лихие рубежи;
С ним рядом коровяк и рыжая полевка,
А он лежит в полях огромно и неловко
(Сам разумеешь смысл моих иносказаний) -
То ль камень межевой, то ль череп великаний? Предлагаемая подборка ни в коей мере не претендует на какое-то новое прочтение Норвида. Или, как выражаются, свежее. Поэзия - не осетрина. Но общий историко-философский тон стихов Норвида как-то заглушил его лирику. По-моему, несправедливо, о чем и хотелось напомнить. Норвид часто говорил “векам, истории и мирозданью” (вспомним Маяковского), реже - себе. Но сказанное себе иногда оказывается долговечней, и поэзия дает тому немало примеров от Архилоха до Маяковского и далее. Последний польский романтик Циприан Норвид взял на плечи тяжкую и едва посильную ношу. Ушли из жизни Мицкевич, Шопен, Словацкий - и Норвид остался один. Когда думаю о его судьбе и его одиноком труде, не замеченном современниками, мне вспоминаются строки из стихов Николая Рубцова о разоренном и обезлюдевшем русском Севере: Лишь один во всем околотке
Выйдет бакенщик-великан
И во тьме промелькнет на лодке,
Как последний из могикан. Промелькнет, зажигая путеводные огни. Наш эпос I
Я по твоим следам учился чтенью,
Печальный рыцарь! - вечным силуэтом
Передо мной стоишь высокой тенью,
Спиною к солнцу вычерченный светом,
И ярким нимбом замерший на шлеме
Ласкает луч покинутое стремя… II
Твои черты полузабыты мною,
Ты стольким их дарил - таким несхожим.
Но сердце?.. ѕ узнаю, оно родное,
И я твоей тревогою тревожим,
Мой вечный друг! Знакомой нам обоим
Поделимся тоскою по героям. III
Ребенком над зачитанной страницей
(Я помню все и даже цвет бумаги)
Оцепенев нахохленною птицей,
Я чары чтенья, магию из магий,
В себя впивал - и все казалось мало,
И все на свете было мне немило,
Когда родня от книги отрывала
Или свеча догасшая чадила
Или сверлила мысль: еще немножко,
Страница - и захлопнется обложка!.. IV
Суди же сам, насколько ты мне дорог,
И мне поверь: я не рожден пиитом
И не витаю в неземных просторах, -
Как жил, так и пишу о пережитом… V
Да, это так… И пусть оружье ржаво,
Ты вновь маячишь, в мареве чернея,
И будишь боль, как сонного удава:
Ведь у меня есть тоже Дульсинея! VI
Да, это так… Смешного в этом мало -
Читателю смешно и ротозеям, -
А нам, коней седлавшим, как бывало,
На страх и на отмщение злодеям,
Освобождая спящую принцессу, -
Нам боль и пыль и долгий путь по лесу. VII
А смех? - потом… Потешится потомок
Над тем, как безрассудны мы и хилы,
А он - иной, и голос его громок,
И разум свеж, и сам он полон силы… VIII
Счастливые!.. в раю благословенном
Витают со своими Беатриче
И, недоступны бедам и изменам,
Венчают лавром ясное обличье,
И перстнями их руки осияннны,
И отовсюду слышатся осанны! X
***
Ну, дай им Бог… X
…а мы, мой рыцарь бледный,
Мы по сырым лесам от замка к замку,
Доспехи опоясав алой лентой,
Из дальней дали тянем нашу лямку,
Застрявшую в решетках, эшафотах
И жерлами ощеренных воротах… XI
То лежбище драконов на полянах,
Сожженных ядовитою слюною,
То злобный гном, из самых окаянных,
Глаза коня захлещет беленою,
Здесь молят с башен девичьи платочки,
Там серый змей в зеленой оторочке… XII
Легко ли пробираться по болоту
И выдирать копье из бурелома,
То лишь тебе понятно, Дон Кихоту,
И лишь тебе, великому, знакомо -
И недостойна челядь с ее смехом
Притронуться к заржавленным доспехам! XIII
Ну, а мою, ламанчец, Дульсинею
Я знаю лишь по снам да по приметам,
А наяву не свиделись мы с нею;
- То ветерок покажется приветом,
То прядь волос, играя с покрывалом,
Блеснет звездой, то взглядом изумленным
Найдешь колечко с радужным опалом,
То притаится в вереске зеленом
След туфельки, заметный еле-еле
И крохотной жемчужнице подобный… XIV
И это все!.. Мне часто птицы пели,
Что чары спали, враг повержен злобный,
Светлеет за решеткою оконной -
Разбуженная сходит по ступеням,
Держа свечу, и пятятся драконы,
Бегут от света с яростным шипеньем
И под землей, обламывая крылья,
Скребя когтями, воют от бессилья… XV
И что ж? - поют певуньи о желанном,
Садясь на щит мой, но душа не рада
И чувствует, привыкшая к обманам,
Что песни лгут - а нам потребна правда
И нам за нею гнаться, Дон Кихотам,
Навстречу копьям, ядам и тенетам!.. Слушатель I
Ты знаешь край, где музыканту в руки
Вплывает мир, раскалывая льдины;
Когда слова бессильней слез и муки,
Слова молчат - а звук и мысль едины! II
Останься там! - а я в борьбе созвучий,
Закрыв лицо, привычное к печали,
Услышу весть, как дальний гром за тучей,
И вслушаюсь - пока танцуют в зале… III
А ты играй - чтоб веселей плясали! Как... Как если бы фиалкою лиловой
Коснулись глаз, не проронив ни слова… Как если бы повеяло сиренью
И, расцветая облаком туманным,
Прохладное, как утро, дуновенье
По клавишам скользнуло фортепьянным… Как лунный отсвет, в сумерки вплетенный
И в волосы стоящей на крылечке,
Венчает ее голову короной,
Разубранной в серебряные свечки… Как разговор с ней, суетный и смутный,
Подобный вихрю ласточек над домом -
Предвестнику грозы сиюминутной,
Пока она прокладывает русло
И молния еще не стала громом - Так…
… умолкаю, слишком это грустно. Нежность Бывает нежность яростной, как войны,
И тихой, как биение сердец,
И словно гул заупокойной… И как цепочкой заплетенный локон,
Чтобы донашивал вдовец
Часы с брелоком - Синяя лента *
Синюю ленту верну, не сумею
Переупрямить.
Я твою тень, ее гибкую шею,
Взял бы на память. **
Да ведь отпрянет от рук или взгляда -
Тень безобманна!
Нет, ничего от тебя мне не надо,
Милая панна… *** Руки господни и мне утешений
Не пожалели *
К раме прилипший листик осенний,
Отзвук капели… В тетрадь Варшава***
Эх, если бы за наледью оконной
Промерзшего насквозь апартамента *
В лазури перистиль белоколонный
И синева на бронзе монумента,
И светом голубого небосвода
Заласканные лавры, как в Сорренто…
Куда там! Лишь туман да непогода… Рим***
Эх, если бы да вместо кипарисов
И зноя, выжимающего слезы,
И Колизея (улья рыжих лисов!) *
Плакучее девичество березы
И под ногой не выжженные плиты,
Осколки ваз этрусских и руины,
А холодок бахчи свежеполитой
И хоть комок убогой нашей глины…
Эх!.. Пенелопа!.. бред воображенья,
Тебя я знаю чуть ли не с пеленок -
Твою осанку и пренебреженье
К золе сердец, тобой испепеленных,
И веер твой, раскрытый своевольно,
И власть, и теноров твоих хваленых *
И правду тоже - и с меня довольно. Марионетки 1
Как не хандрить?.. когда тихая стая
Неповторимых созвездий
Медлит над нами - а мы, отлетая,
Так и остались на месте… 2
Все, как и было, и каждый, кто ныне
Жив еще, рядит и судит -
А через миг его нет и в помине,
Да ведь людей не убудет. 3
Тошно в театрик такой захудалый
Ради пустой оперетты
И неумелой игры в идеалы
Жизнью платить за билеты… 4
Господи, чем же прогнать эту скуку,
Что поселилась без спросу?
Время угробив на скорую руку,
Вирши строчить или прозу? 5
Или замолкнуть?.. забыться в теплыни
И перечитывать главы,
Те, что Потоп на песчинках пустыни
Нам написал для забавы… 6
Нудность и скука… а впрочем, знакомы
Средства от этих напастей:
Брезгуй людьми и ходи на приемы
- Галстук надев поцветастей. С борта "Маргериты", отплывающей в Нью-Йорк
Лондон, декабрь 1852, 10 утра I
Сочится свет на снасти и на всплески,
Тускнея в довершение картины:
Туман капризней женской занавески,
И облака за нею ѕ как руины… II
"Чего руины? Что за занавеска?
А женщина?.." ѕ читателю досадно,
Что далеко сравнениям до блеска
И что-то с этой женщиной неладно ѕ III
Не возражу… темны мои печали,
Я лишь один из журавлей пролетных,
Что паруса тенями омрачали,
Не оставляя образ на полотнах… IV
Чем кончу?.. никогда не знал, похоже,
Лишь…
(колокол прервал)
…ну, дай вам Боже… Загадка Что за оковы сподручней для ката
И за надежность особенно чтимы?..
Те, что безжалостней стали и злата,
Неощутимы… Крест и дитя 1
- Отец! Мы на краю,
Скорей к кормилу!..
К мосту несет ладью,
А нас - в могилу. 2
Взгляни! пролет моста
И мачта слиты,
Как будто тень креста
Легла на плиты… 3
- Сынок мой! Не беда,
Судьба рассудит.
То добрый знак. Туда!
И будь что будет… *
Сменилось ли окрест
Хотя бы что-то? *
- А где наш черный крест? *
- Открыл ворота. Циприан Камил Норвид Одиночество Тихо. Один лишь паук свою сетку колышет.
Тополь перед окном теплый ветер чуть тронет.
Сладко мечтает душа и летающе дышит,
Шум и улыбка мне мысль не стеснит, не заслонит. Видишь: невольник восстал, и темница открыта.
Видишь: угасшую жизнь сердце чувствует снова.
Я, на минуту уйдя от назойливых пыток,
Нежность молчания чувствую, легкоголовый. Если при разговоре нас сердце не соединяет,
И разнородные мысли должны циркулировать вместе,
Если душа к разговору души непригодна,
Нас совершенно напрасно нектар опьяняет, Пыткою будут и смех, и веселье, и песни.
Мне же блаженство и жизнь, если мысль мне свободна Колыбель песни КОЛЫБЕЛЬ ПЕСНИ
(Современным народным певцам) I
Где тон и мера радостно предметны
И весь предмет гармонией напоен,
Сама там - песнь и - рифмы семицветны;
Звук воздымается, переплетен и строен,
И в нужном месте гаснет незаметно. II Умей словам вернуть их первозвучность:
Ведь рифма - не в конце, а в сердце фраз,
Она у слова - внутренняя сущность:
Не там и звезды, где их видит глаз*. III Так, песнь - не то, что сделали вы с нею,
А песнь народная - обхват души
И плавность слов: так глаз слезой полнеет,
Дыханье теплое, а не приказ: "Дыши!.."
Так новый мак всцветет, так птенчик хрупкий
Увидит день быстрее и полней,
В тот миг, когда чуть лопнула скорлупка, -
Уж сердце полно токов и огней, IV И вот, они не наши -
Песни наши,
Но что-то им дает прекрасный ОН.
Я сплю; не мне то снится: общий сон
Полчеловечества совидится со мной
И помогает мне: и тихо и глубоко,
Сурово и таинственно:
- Всех - Око. V Отсюда песнь народа восстает:
Со дна миротворенности глубинной,
Течение и стон черпая голубиный.
Ее сам Бог поет
__________ · Каждому известно, что ни солнце, ни звезды не находятся там, где это представляется наблюдателю. Осень О - тернии топтать терпимей - и с охотой На зубья копий целить грудь, Чем слез своих переходить болото , В тумане вздохов - муть. Пусть в небо лучше радугой вольется Туман - нужна заря, весна! - И стягами вестей вернется До капли и сполна. Ведь слаще тернии топтать, с охотой На зубья копий целить грудь, Чем слез своих переходить болото , В тумане вздохов - муть. Переводы с польского Аллы Козыревой. http://lovepoetry.narod.ru/norvid.html
MOJA PIOSNKA [II]
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba… Tęskno mi, Panie…
*
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą… Tęskno mi, Panie…
*
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie: «Bądź pochwalony!» Tęskno mi, Panie…
*
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, Równie niewinnej… Tęskno mi, Panie…
*
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia, Do tych, co mają tak za tak — nie za nie - Bez światło-cienia… Tęskno mi, Panie…
*
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi? I tak być musi, choć się tak nie stanie Przyjaźni mojej!… Tęskno mi, Panie…
Моя песенка (Циприан Норвид)
По тем просторам, где крошек хлеба Не бросят наземь, считая всё же Их даром неба, тоскую, Боже.
*
По тем просторам, где гнёзд на грушах Никто не рушит — ведь аист тоже Нам верно служит, — тоскую, Боже.
*
По тем просторам, где на Христово Благословение похоже Привета слово, тоскую, Боже.
*
И об ином, о чистом столь же, Как вертоград средь бездорожья, Все больше, больше тоскую, Боже.
*
По не впадающим в сомненья, По тем, чьё да на да похоже, А нет на нет, без светотени, тоскую, Боже.
*
Всегда тоскую. Кому я нужен? О дружбе – ведь со мной никто же Не очень дружен — тоскую, Боже.
1854
Норвид Ц. Стихотворения / Пер. с польского. М., 1972. 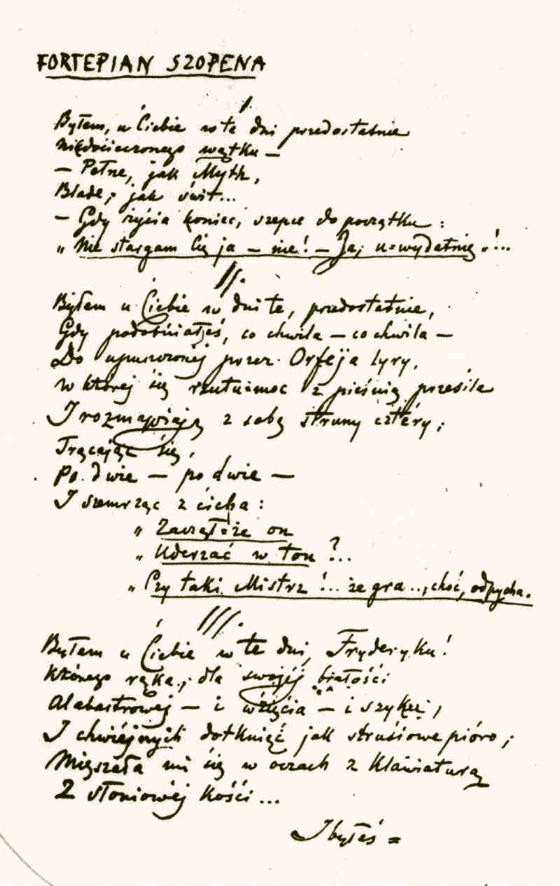
«Чёрные цветы» ...Немало любопытного в этом роде мог бы я припомнить, но стоит начать, как рука в отвращении бросает перо, а в голову приходит вопрос: «Стоит л и?..». Ибо при нынешнем отношении к литературе утрачено понимание того, что автор может и з б е г а т ь в с е х л и т е р а т у р н ы х пр и ё м о в, потому что слишком уважает предмет описания, интересный и захватывающий сам по себе,- в п р о т и в о по л о ж н о с т ь то м у с л у ч а ю , к о г д а о н п р о с т о н е в л а д е е т ф о р м о й и с ти л е м... Можно спуститься на землю с высот и твердо по ней ступать,- а можно ползать по земле, потому что не способен над ней возвыситься,- редкий читатель в наше время способен отличить одно от другого, и слишком многие не видят тут никакой разницы, почему для писателя гораздо безопаснее не искать непроторенных путей, а снова и снова смешивать в разных пропорциях всё те же м о т и в ы и ф о р м ы, не отваживаясь ни на какую новизну.
А ведь встречаются в великой книге ж и з н и и п о з н а н и я эпизоды, для которых не существует готовых средств выражения, и в том-то как раз и состоит искусство, чтобы передать их, ничего не изменяя и не добавляя от себя. Приходится, однако, оставлять это в душе, как личное приобретение, из страха перед бесцеремонным критиком который подобно малюющим по трафарету малярам знает только два готовых стилевых шаблона на все случаи жизни...
Первый из этих шаблонов есть какой-то книжный классицизм, которого отнюдь не знали ни грек эпохи Перикла, ни римлянин времён Империи; а другой следует расхожим журналистским штампам современности, самопроизвольно возникшим с развитием массового книгопечатания. Втискивая весь жизненный материал в первую из этих рамок, мы лишаемся всякой связи между книгой и жизнью, следуя же второму трафарету, мы отсекаем себя от самого источника жизни и искусства.
Поэтому в наши дни скорее будет пользоваться успехом какая-нибудь имитация с р е д н е в е к о в ы х м е м у а р о в , чем произведение, основанное на будоражащих совесть фактах современности,- читатель напоминает женщину, которая в разлуке с другом хранила бы на память его портрет, а когда этот друг вернулся, заявила бы: «Не отвлекай меня, в этот час я привыкла смотреть на твой портрет, а потом сяду писать тебе письмо!»
*
...И вот - вспоминается мне... Было это в Риме, я шёл из катакомб, где любил рассматривать сохранившиеся раннехристианские фрески...- но о них промолчу, потому что говорить пришлось бы слишком долго: обо всех подробностях, о каждой их линии. Упомяну только, что в этом огромном подземном городе, рассматривая надписи и изображения на его стенах, я понял, что каждая капля крови, пролитая в разыгравшейся там серафической и жестокой трагедии, была почтена и помянута в братских молитвах единоверцев. В катакомбных саркофагах, напоминающих библиотечные полки, хранятся небольшие стеклянные сосуды, ныне приобретшие кремнистоголубой цвет, разбитые или целые,- и свидетельствуют сердцу, как бережно собирали плещущую в застенках, растекающуюся по каменным лестницам мученическую кровь. Лилась она широкой рекой, словно овечья кровь на бойне - и так ею дорожили!!
..................................................................................................................................
...Тогда-то я и встретил сходящего по лестнице на площади Испании Стефана Витвицкого. Он горбился, словно глубокий старец, и тяжело опирался тростью на каждую ступеньку. Его красивое лицо, дышащее какой-то непреходящей юностью, и ниспадающие на плечи густые, словно вырезанные искусным мастером из чёрного дерева, пряди тёмных волос резко контрастировали со старческой походкой. Вскоре после этой встречи я пришёл к нему домой - это было за неделю до его кончины. Он лежал на диване, полностью одетый. Ему было трудно говорить, и он смотрел своим ясным взором, в котором всегда чудилась набегающая слеза. Иногда он вставал и подавал кому-нибудь руку, чтобы ему помогли пройтись по комнате. Увидев, как я вхожу, он поздоровался и, протянув руку, подтолкнул ко мне лежащий на полу у дивана апельсин, который я (поскольку у него было в обычае преподносить мне и Габриэлю Рожнецкому*1, когда ему что-то нравилось из наших работ, сигары и прочие безделицы) послушно поднял. Габриэль тоже был там - он проводил все ночи до последней у Стефана, сидел с ним и оказывал ему все необходимые услуги. И вот Стефан Витвицкий дал понять Габриэлю, что хочет встать с дивана, тот подал ему руку, и они стали прохаживаться по комнате. Во время этой прогулки Витвицкий впервые показал признаки легкого и безобидного, но вполне заметного расстройства рассудка. Он то и дело останавливался и, указывая рукой, говорил:
-...А э т о к а к о й ц в е т о к?.. Э т о т ц в е т о к к а к ж е о н у н а с н а з ы в а е т с я?..- Никаких цветов в комнате не было. - И х м н о г о р а с т ё т в П о л ь ш е . . . И в о т ц в е т ы . . . И т а м т ож е... К а к ж е и х у н а с н аз ы в а ю т ?..
Когда я пришёл проведать Витвицкого в следующий раз, он лежал, изуродованный свирепствовавшей в то время оспой, и уже не мог говорить. Незадолго до смерти Витвицкого скончался генерал Клицкий, круглые сутки окружённый чуть ли не всеми поляками и польками, обитавшими тогда в Риме,- тоже достойное и редкое воспоминание.
Когда я вспоминаю последние разговоры с теми, кто уже покинул этот свет, каждый раз я пытаюсь избежать каких-то выводов и сопоставлений, которые сами собой напрашиваются, когда воспоминания эти собираются вместе, и потому-то я стараюсь превратить перо моё в фотографический аппарат, чтобы не погрешить против точности - иначе пришлось бы цитировать единственные слова Вольтера, которые когда-нибудь приходили мне на ум, а именно:
Je tremble!.. car ce que je vais dire
ressemble r un systеme *2.
Каковое изречение, возможно, является самым философским у этого философа.
*
А вот воспоминание более позднее, уже парижских времён... Ф р и д е р и к Ш о п е н жил на улице Шайо, идущей вверх от Елисейских Полей,- по левой стороне в бельэтаже, с видом из окон на сады, на купол Пантеона, на весь Париж... Если глядеть отсюда, Париж о т ч а с и н а п о м и н а е т Рим, чем это место и отличается от всех прочих. Большую часть квартиры занимала просторная гостиная в два окна, где стоял бессмертный шопеновский рояль, нимало не изысканный - не изукрашенный, не похожий на шкаф или комод, как модные рояли,-но длинный, треугольный, на трёх ножках, какие, я думаю уже мало кто держит в богатых квартирах.В этой гостиной Шопен обедал в пять часов, а потом, с трудом сойдя по лестнице, ехал в Булонский лес. По возвращении его вносили наверх, потому что подняться сам он не мог.- Я не раз обедал с ним и сопровождал его в этих прогулках. Однажды мы заехали по дороге к Богдану Залескому, который тогда жил в Пасси. Мы не поднялись к нему, потому что некому было внести Шопена, а остались в саду у дома, где на травке играл сын поэта, тогда ещё совсем маленький..
Немало времени прошло с тех пор, а я не виделся с Шопеном, хотя вести о нём до меня доходили, и я знал, что к нему приехала из Польши сестра. Наконец я зашёл однажды, желая его проведать, но служанка-француженка сказала, что он спит. Я вышел, оставив карточку.- Не успел я, однако, сделать несколько шагов вниз по лестнице, как служанка догнала меня: Шопен, узнав, кто приходил, пожелал меня видеть,- он, оказывается, не спал, а просто не хотел принимать гостей. Я вернулся, обрадованный, и вошел в примыкающую к гостиной комнатку, где Шопен обычно спал. Он был одет, но, опершись на подушки, полулежал на широкой, затенённой пологом кровати, в чулках и домашних туфлях - видимо, у него распухли ноги. Рядом сидела его сестра, чрезвычайно похожая на него в профиль... Шопен был, как всегда, необыкновенно прекрасен - с удивительно законченными и монументальными, словно нарисованными чертами... Была у него какая-то естественная, но величественная отточенность жестов, та изысканная пластика, которую могла обожествлять древняя афинская аристократия, которая бывает присуща великому артиста например, в классических французских трагедиях им, при всей их академической благовоспитанности, столь далёкой от подлинной античности, гении, по добный гению Рашели, может придать жизненность, правдоподобие и истинную классичность...
И вот - прерывающимся голосом кашляя и задыхаясь, Шопен посетовал, что давно меня не видел- потом стал шутить, безобидно подсмеиваясь над моими мистическими склонностями, против чего я не возражал, поскольку это доставляло ему удовольствие. Потом он закашлялся. Я понял, что пора дать ему покой, и стал прощаться, а он, сжав мою руку отбросил волосы со лба и проговорил: «...М н е н е д о л г о о с т а л о с ь!..»-и снова закашлялся. А я зная что иногда ему полезно услышать решительное возражение, принял известный искусственный тон и, целуя его в плечо, ответил, как отвечают сильному и мужественному человеку: «...Т ы к а ж д ы й г о д т а к г о в о р и ш ь ... а, с л а в а Бо г у , в с ё ж и в!»
На что Шопен, продолжая прерванную кашлем фразу, сказал: «Я г о в о р ю , ч т о м н е н е д о л г о о с т а л о с ь т у т б ы т ь , я п е р е е з ж а ю н а В а н д о м с к у ю п л ощ а д ь...»
Это был мой последний с ним разговор. Вскоре он действительно переехал на Вандомскую площадь и там умер. После этого своего визита на улицу Шайо я его не видел...
*
...Еще при жизни Шопена я как-то зашел на улицу Понтье, поблизости от Елисейских Полей, в дом, где швейцар вежливо отвечал всем, кто заходил испрашивал, как чувствует себя М о n s i е u r J u l e s. На последнем этаже была скромно меблированная комнатка. Окна её выходили на широкий простор, единственным её украшением был багрянец горящегов оконных стёклах заката. Несколько горшков с цветами стояло на балкончике, а над ними порхали и щебетали воробьи, которых подманивал хозяин. Вся квартира состояла из этой комнатки и примыкающей к ней крошечной спальни.
Было около пяти часов пополудни, когда я предпоследний раз был там у Юлиуша Словацкого. Oн только ко что закончил обед, состоящий из супа и жареной курицы, и сидел поэтому за круглым столом в центре комнаты, одетый в длинный поношенный сюртук и малиновую выцветшую конфедератку, небрежно нахлобученную на голову. Говорили мы о Риме, откуда я не так давно приехал в Париж, о некоторых знакомых и друзьях - о моем брате Людвике, которого покойный пан Юлиуш трогательно любил, о "Небожественной комедии», которую он высоко ценил, о «Предрассветном часе», который он считал красивым ребячеством... Об искусстве - соглашаясь, что оно вырождается в безжизненную механику,- и о Шопене (который был ещё жив). Юлиуш, покашливая, сказал мне: «Н е с к о л ь к о м е с я ц е в н а з а д я в и д е л е го , о н об р е ч ё н...» - и, однако, он сам прежде Фридерика Шопена покинул этот свет.
В эту комнатку, которой, как говаривал Юлиуш, «вполне бы хватало для счастья, не будь у неё перекошены с одной стороны углы»,- его раздражал искажённый квадрат,- в эту-то комнатку, говорю, вошел я как-то вечером, а Юлиуш стоял у камина, покуривая трубку с длинным чубуком,- такие трубки курят в польских деревнях. На диване сидел художник-француз (которого Юлиуш впоследствии назначил своим душеприказчиком), но этот ничего не говорил - сидел и как-то неестественно молчал. Над камином висела бронзовая медаль с профилем Юлиуша - одна из красивейших подобных работ Олещинского.
О Франции, о революции, о римских происшествиях говорили мы, он - естественным, но красочным слогом, с неожиданными оборотами речи. В словах его звучала покорность жизни, заставляя вспоминать глубокие философские изречения, встречающиеся в «Марии» Мальчевского, чему, однако, противоречили его чёрные, полные огня глаза и энергично вырезанные крылья орлиного носа... Под конец разговора он сказал: «Грудь, грудь у меня болит, все пичкают меня конфетами от кашля - кашель-то они успокаивают, хоть и ненадолго, зато настолько же вредят желудку.Приходи ещё, потом, через неделю, две, позже...Чувствую я, что близок мой конец» - Он говорил это отчётливо, забавляясь чубуком своей трубки, который ходил в его руке налево-направо, словно МАЯТНИК стенных часов.
На следующей неделе я не преминул снова зайти к Словацкому, но встретил посетителя (из тех кого можно назвать его у ч е н и к а м и ), который от него выходил, а было уже темно - и этот человек сказал мне: «Лучше зайди к Юлиушу завтра, сегодня он не в себе, потому я и ухожу».- «А что с ним?» - спросил я.- «Не знаю,- ответил он.- Скажу тебе только, что сам Юлиуш очень беспокоится о своем здоровье и обращался уже сегодня к помощи и покровительству св. Михаила Архангела, уповая, что тот уделит ему сил ещё на какое-то время». Услышав это, я, зная глубокую религиозность Словацкого, не слишком удивился, но отложил свой визит до другого дня.
Этот день настал на следующей неделе, но было это в утренний час. Я вошёл первым и увидел холодное тело Юлиуша - минувшей ночью, приобщившись Святых тайн (и прочитав письмо от матери, пришедшее как раз в пору кончины) заснул он смертным сном и отошел в невидимый мир. Редко случается видеть у покойников такие прекрасные лица, каким было лицо Словацкого,- белеющий профиль его четко выделялся на фоне отделяющего ложе от стены темного выгоревшего ковра с рисунком, изображающим какую-то сцену из польской истории. Пташки слетали на неухоженные цветочки в горшках, шла предпохоронная суета, а сами похороны разные люди описали потом по-разному.
Я видел на этих похоронах д в у х женщин-одна заливалась горькими слезами, и я часто потом с отрадой вспоминал её, навещая многочисленное в те дни развлекающееся в Париже польское общество, - ибо много было (как всегда прекрасных и незаурядных) полек в те дни в Париже...
У меня был рисунок Юлиуша, сделанный им с натуры в Египте,- пейзажи особенно ему удавались, - и я разрезал эту памятку на две части и одну из них подарил для альбома некоей даме, приехавшей с родины , а другую оставил себе,- чтобы исполнилось написан ное в «Бенёвском": «П р а в у ю т в о ю п ер ч а т к у в ы с т а в я т в к а к о м - н и б у д ь му з е е , а о п о те р я н н о й л е в о й б у д у т ж а л е т ь!..», -ибо ирония изящная и не злая, вроде той, что была присуща Юлиушу, посмертным воспоминаниям отнюдь не помеха. Да, звучит она подобно тем словам, которыми велел будить себя Филипп Македонский; «Ц а р ь! С о л н ц е у ж е в о с х о д и т , п о м н и ц е л ы й д е н ь , ч то т ы с м е р т е н!»
*
А сейчас вспомнился мне совсем другой человек, отнюдь не знаменитый, не прославленный талантом, трудом или страданием,- женщина, которой даже фамилии я не знаю, и в национальности не уверен... И всё же приведу здесь в точности своё воспоминание о с м е р т н о й, неведомой мне - ведь я ещё во вступлении предупредил, что в таком повествовании, как своё нынешнее, главным достоинством считаю достоверность рассказа - да и не скрыл того, что думаю о критике, критиках и литературном стиле.
Так вот... Года через два после описанной выше смерти я находился... не в Париже - и вообще не во Франции, а также не в Англии, не в Европе, ни даже в Америке... Я находился на корабле. Мы стояли на якоре при самом выходе в Атлантику, среди меловых островов покрытых белыми острогранными скалами. Было в о с к р е с е н ь е. В ясном, без единого облачка, небе пылало солнце, а ниже колыхались темные сине-чернильные громадные волны - при полном безветрии. Паруса были неподвижны, и даже небрежно свисающая с салинга верёвка не шевелилась... Я ещё не видел всех пассажиров, а они как раз по случаю прекрасной погоды выходили на палубу; я сидел на лавке под высокой мачтой, рядом с новым своим знакомцем, просвещённым еврейским юношей, с которым полюбил беседовать. Плыть было невозможно из-за полного штиля, и неизвестно было, сколько он продлится...
Я сидел и смотрел в бесконечное волнующееся пространство, и тут рядом прошуршало женское платье, и мои сосед промолвил по-французски: «Посмотрите, ведь вы художник - какая красивая женщина! Она несет собачке, которую кто-то взял в путешествие, блюдце молока. Все радуются хорошей погоде и воскресенью, а этот бедный щеночек и не знает, куда его занесло, надолго ли».
Но я не повернул головы и рассеянно ответил, думая о другом: «Сейчас не буду на неё смотреть, ведь женщины прекраснее всего, когда не догадываются, что на них глядят,- но я запомню ваши слова и р а с с м о т р ю е ё п р и с л у ч а е, в д р у г о й р а з ...»- и последние слова я подчеркнул, чтобы переменить разговор.- Но даже и не глядя на эту женщину (кажется, ирландку), нельзя было не почувствовать, что она удивительно хороша,- благодаря стереоскопам мы сейчас очень хорошо знаем, как многое замечаем невольно, боковым зрением. При полном безветрии село солнце, взошла луна,- я ушел с палубы в свою тесную душную каюту, заснул. Было тихо, только вахтенные ходили по помосту нашего трехмачтовика... Глубокой ночью раздался вдруг какой-то крик - забегали люди с фонарями,- высокий негр, глава корабельной прислуги, метался по трапам в поисках врача...
Наутро, выйдя на палубу, я почувствовал на корабле какое-то необычное возбуждение. Та женщина молодая и красивая, на которую я собирался при случае бросить внимательный взгляд, внезапно умерла ночью. В таких случаях принято накрывать останки специально для этой цели предназначенным темно-синим полотнищем с большими белыми звездами,- оно-то и чернело посреди палубы, заливаемой светом восходящего солнца...
И я спрашиваю себя: с т о и т л и выводить из забвения и закреплять пером ту поэзию, что на самой жизни запечатлел резец правды,- для нынешней публики, равнодушной и циничной, которой фантастические, навеянные порцией индийского г а ш и ш а враки модного романиста заведомо понравятся больше!.. ..............................................
Потом я вернулся в Европу... Адам Мицкевич жил поблизости от площади Бастилии, в здании библиотеки Арсенала, где и служил библиотекарем. Это место (очень скромное, едва доставляющее средства к жизни многочисленному семейству незабвенного нашего покойного поэта) предложил ему человек, чью судьбу он предсказал,- родственник великого Наполеона, нынешний французский император,- и предложил, как мне помнится уже тогда, когда в газетах писали, что профессор Коллеж де Франс Адам Мицкевич и ещё несколько человек отказались присягнуть императору. Впоследствии б и б л и о т е к а р ь посвятил и м п е р а т о р у Оду, написанную языком Горация, и эта ода чрезвычайно подходила к доверенной её автору должности.
И вот незадолго до поездки на восток, в которую, бросив свое библиотекарство, отправился пан Адам, я зашёл к нему, в здание библиотеки Арсенала,- плохо освещённое строение, изобилующее коридорами и каменными лестницами. Помню, что у меня был с собой молитвенник,- следовательно, было это в воскресенье, и я шел с обедни. Я шёл к нему с теплым чувством, ощутив, что он стал мне б л и ж е - до меня дошло, что он в с п о ми н а л м е н я , когда я был в Америке; и хотя он всего лишь сказал кому-то, узнав о моём отплытии: «...Э т о в с ё р а в н о , к а к е с л и б ы о н н а Пе р - Л а ш е з о т п р а в и л ся...», - мне всё же было приятно, что обо мне вспоминали в Европе, и потому я радостно поспешил его навестить. Он весело посмотрел на меня и обнял. Мы беседовали до захода солнца, ибо помню что, когда я наконец собрался уходить, окно краснело отсветами заката. Комната была маленькая, с жарко натопленной печью, где время от времени пан Адам орошил кочергою угли.
Одет он был в потёртый тулупчик, крытый серым сукном - где в Париже можно было достать такой такого покроя и цвета, притом поношенный? Вопрос любопытный. Такие тулупы носят зимой мелкопоместные шляхтичи в глухой провинции, далеко от Варшавы. На стене висела хорошая гравюра с Михаилом Архангелом - копия с оригинала, висящего у Капуцинов в Риме,- а может, и с луврской картины Рафаэля, не помню хорошенько. Был там и образ Божьей Матери Остробрамской, и оригинал Доменикино - рисунок, изображающий последнее причащение святого Иеронима, а также небольшая гравюрка с портретом Наполеона Первого - ещё даже не генерала,- а под ней дагерротип с пожилым мужчиной в наглухо застёгнутом сюртуке, какие носят французские ветераны. Тогда как раз разгоралась последняя война... А на бюро стояла н е д а в н о п о я в и в ш а я с я у пана Адама гипсовая статуэтка, изображающая двух борющихся медведей.
Это было ещё при жизни супруги Мицкевича, а недели через две после её похорон я снова зашел к нему часов около десяти утра. Я застал его на пороге - он как раз выходил, и я, открыв двери, налетел на нега Он вернулся. Мы проговорили часа полтора, а потом вместе вышли: ему надо было куда-то идти, и он уже опоздал на эти самые полтора часа. - Он рассказывал о смерти жены , подробно, невозмутимо, уклонившись от темы, чтобы сказать, что тоько незнание и с т и н ы заставляет нас бояться смерти и всего, что к ней относится... И когда мы дошли до перекрестка, где наши пути расходились, он сжал мне руку и сильным голосом сказал: «Ну... Adieu!" Никогда до этого он не говорил со мной ни по-французски, ни таким тоном, а ведь нам столько раз доводилось прощаться. Я прошел тогда пешком почти через весь город и, поднимаясь по своей лестнице ещё слышал это «...Adieu!»
Вышло так, что мне не удалось более увидеться паном Адамом или проститься с ним, когда он уезжал на восток,- словом, это наше, так удивительно для меня прозвучавшее прощание оказалось последним... Добавлю для ясности, что особенностью покойного пана Адама было то, что не только е г о с л о в а, но
и интонация, з в у к е г о г о л о с а, неизменно запечатлевались в памяти.
.....................................................................................................
На улице Т у р д е Д а м, на возвышении, есть один дом. Стоит в него войти, и делается ясно - по необычному расположению лестниц, по осколкам глазурованной флорентийской керамики четырнадцатого века,- что здесь живёт незаурядный художник... И я вошел туда не так давно, а потом поднялся на последний этаж в мастерскую Делароша, и великий художник соблаговолил показать мне свою последнюю, только что оконченную работу. Это была картина размером в п о л - л и с т а на деревянной панели полукруглой формы.- Через щель, подобие окна, еле различалась иерусалимская улочка, где можно было скорее п о ч у в т в о в а т ь, чем у в и д е т ь, как человека, которого называли Учителем Мессией, царём и пророком - Христа, сына Бога живого,- ведут под стражей: с одного судилища на другое или, может быть, на Голгофу. Святой Петр, стоя возле этого окна, делает порывистое движение, словно ища меч, а святой Иоанн, положив ему руку на грудь, успокаивает главу апостолов, и сам, забеспокоившись, вглядывается в окно.
Эти двое стоят у стены с окном - за ней уступ, как уступы строф в Stabat Мater,- и далее Богоматерь преклонила колени , словно перед алтарём в церкви, когда на нем выставлены Святые Дары, - далее снова уступ - и группа святых жен в тени, среди какой-то катакомбной архитектуры... Вот и весь образ страстей Господних, где сам Спаситель п о ч т и н е в и д е н, но Его присутствие читается н а л и ц а х тех, кто видит Его страдания.
Я рассматривал картину, и меня переполняла радость: есть ещё на свете художник... А поскольку г-н Деларош (как некогда А р и Ше ф ф е р) позволял мне высказывать в с ё, ч т о п р и х од и л о в г о л о в у при виде его картин,- да и невозможно, по-моему, разговаривать иначе с художниками такого уровня,- долго я говорил, стараясь выразить свои мысли как можно точнее.
В заключение я сказал, что в одной такой картине что-то есть незаконченное, нужно продолжение, на что Деларош ответил мне: «Я и хочу написать три таких картины, чтобы получился ц и к л...» Потом он показал мне ещё портрет Т ь е р а, со всех точек зрения исключительный, и, снова повернувшись к маленькой картине, сказал прощальным тоном (потому что как раз входил другой посетитель): «Да, только три этого рода картины образуют целое...» - и, пройдя вместе со мной несколько шагов к двери, добавил: «В о т к а к т о л ь к о с д е л а ю д в е д р у г и х к а р т и н ы , п о к а ж у и х в а м . П о к а ж у...»- он обычно подчёркивал это, потому что не выставлял публично своих произведений и не каждому их показывал, особенно с некоторых пор...
С тех пор я больше не видел Делароша, со смертью которого последний луч Л е о н а р д о да В и н ч и потонул во мраке...
Я пытался узнать, успел ли великий художник перед смертью начать эти две другие картины, но нет... Может быть, в набросках...
*
Описанное здесь назвал я Ч ё р н ы м и ц в е т а м и. Воспоминания мои верны, словно подписи свидетелей, которые, не умея писать, подписываются знаками неуверенно начертанного креста; когда-нибудь!.. в литературе, которую, может быть, я е щ ё у в и ж у. .. такие заметки не будут приводить в недоумение тех, кто привык к рассказикам с моралью.- Есть ведь в самой жизни повести и романы, и драмы, и трагедии, которые нашим литераторам и н е с н и л и с ь, но... облекать их в написанные слова - право, стоит ли?.. 1856 источник - http://norwid.narod.ru/black_fl.htm |