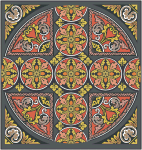Странное счастье рыцаря

Ю. Бессмертный
Пытаясь осмыслить жизненные приоритеты людей прошлого - того далекого прошлого, от которого не сохранилось прямых высказываний о высших ценностях человека, - историки вполне справедливо сосредотачивают внимание на обсуждении современниками переломных моментов их собственной жизни, таких как смерть, неожиданная болезнь, утрата близких. В такую годину человек, сам того подчас не замечая, формулирует то сокровенное, что в обычных обстоятельствах не вербализуется и что, так или иначе, выражает его главные устремления. Именно поэтому в современной историографии столь часто анализируются упомянутые только что сюжеты1.
Но в человеческой жизни бывают «переломные моменты» и совсем иного плана, те, о которых в наше время говорят: «счастье привалило…». Высказывания по этому поводу могли бы быть не менее - если не более - интересны. Ведь у «человека счастливого» время не «отмерено», его эмоции не сковывает, как у умирающего, предчувствие кончины, а поводов поделиться своими радостными переживаниями и вербализовать свои жизненные приоритеты, казалось бы, в избытке.
Вправе ли мы однако думать, что эти наши представления о способности высказываться о счастье, о связи таких высказываний с жизненными приоритетами, применимы к отдаленному прошлому? Оправданно ли предполагать, что истоком позитивных эмоций раньше могло быть то же, что и теперь, например, материальное благополучие, успех, удача, наслаждение? Ведь такое предположение исходит из достаточно самонадеянной позиции, в основе которой
уверенность, что люди прошлого были подобны нам по своему внутреннему миру и восприятию.
Новейшая историография побуждает отнестись к этой позиции настороженно. Отказываясь от упрощенных концепций прогрессивно-поступательного развития, современные исследователи предостерегают против попыток видеть в человеке прошлого лишь нашего «недоразвитого» предшественника2. Вместо этого предлагается новая гипотеза, согласно которой человек прошлого не просто «кое в чем отличался» от нас по своему восприятию, по своим реакциям и эмоциям, но мог быть и принципиально иным по своему внутреннему миру, так что в ряде случаев под вопросом оказывается самая его сопоставимость с современным человеком3.
Анализ эмоций радости, который я хотел бы использовать для осмысления жизненных приоритетов людей прошлого, мог бы параллельно стать одной из форм проверки этой гипотезы. Но для начала необходимо уяснить, встречались ли вообще в прошлом эмоции, аналогичные - или хотя бы сопоставимые - с известными нам переживаниями радости. Только после этого можно вникать в риторику подобных переживаний в отдаленном прошлом и вдумываться в то, какие культурные идеалы она подразумевала.
Ближайшая задача этого очерка - проверить перспективность намеченного подхода на материале поэзии средневековых трубадуров и труверов. Говоря конкретнее, я хотел бы уяснить, как, чему (или отчего) радовался средневековый поэт и как он представлял себе, чему и как может радоваться в 12-13 вв. его читатель - средневековый рыцарь. Не позволит ли это осмыслить, в чем видел такой рыцарь свое счастье и удачу и насколько высказывания этого рода могут помочь осмыслению своеобразия человека этого времени?
Осведомленный читатель мог бы сразу же выразить недоумение. Разве в специальной литературе, посвященной поэзии 2
трубадуров и труверов, не содержатся ответы на все эти вопросы? Разве в ней не было многократно показано, что трубадуры и труверы ассоциировали рыцарские радости с понятием Joi и его синонимами, что самое это понятие включало широкий комплекс позитивных эмоций, что одной из главных таких эмоций была куртуазная любовь к Даме и что внутренний мир трубадуров (как и их читателей) именно тогда обогатился душевными движениями, которые в ходе последующей многовековой эволюции превратились в ценности нового времени?…
Действительно, исследования по этой тематике многочисленны и весьма содержательны4. Но может быть самая главная их ценность в том, что они позволяют пойти в изучении всех этих сюжетов дальше и затронуть, в частности, ту проблему, о которой уже было упомянуто, и которая касается возможности - или невозможности! - видеть в новоевропейских явлениях результат эволюционного преобразования средневековых феноменов.
Я хотел бы, следовательно, вникнуть в смысл и контекст употребляемых поэтами слов и понятий с точки зрения того, насколько своеобразно осмысливаются в них позитивные эмоции героев, насколько отличается это осмысление от привычного для нас, насколько оно «странное», чуждое, инакое. Такой поиск «слов», в которых «обретает голос» самая искомая «вещь» (Гадамер) равнозначен в данном случае осмыслению душевных устремлений героев куртуазной поэзии. Анализ этих устремлений важен не только сам по себе, но и как средство проверить широко принятую посылку, согласно которой куртуазные ценности могут быть истолкованы как предвестие соответствующих новоевропейских ориентаций.
Рассматривая данный очерк как предварительный зондаж источников, я ограничиваюсь в нем анализом лишь некоторых текстов. Наиболее полно я исследую корпус песен знаменитого 3
Бернарта де Вентадорна (1150 - 1180 гг.) - классика ранней провансальской поэзии, особенно четко воплотившего все ее топосы - а для сравнения привлекаю тексты нескольких других трубадуров и труверов.
Обращаясь к риторике Вентадорна, я естественно не ищу в ней какой бы то ни было сколок с действительности. Как и у всякого поэта, образ мира Вентадорна - это некая «виртуальная» реальность. Отличие виртуальной реальности трубадуров состоит однако в том, что она особенно жестко регламентирована совокупностью формул, задающих ее «скелет»5. Это и затрудняет, и облегчает проникновение в подтекст высказываний того или иного автора. Затрудняет, поскольку заслоняет заданной стандартностью «лицо не общего выраженья». Но и облегчает, так как знание принятого стандарта открывает путь к поиску индивидуальных черт данного автора. Всматриваясь в лексику и грамматику Вентадорна, я хотел бы выявить в них то, что позволило бы приоткрыть завесу над своеобразием виртуальной реальности этого поэта. Это тем более оправданно, что, как справедливо отмечено специалистами, Вентадорн - в отличие от ряда других трубадуров - поэт «ясного стиля», приверженный обычной провансальской поэтике6. Многие из его песен сохранились в десятках рукописей. Его (или его жонглера) «разговор» с публикой не мог хоть как-то не отвечать ее вкусам и интересам, ее идеалам и переживаниям. Позволяет ли риторика этого разговора - в той части, которая затрагивает аспект «счастья» - хоть немного прояснить намеченные выше вопросы?
Первое впечатление - обескураживающее.
Вслушаемся в некоторые типичные пассажи Вентадорна7.
«…Ночью, засыпая, //я просыпаюсь, ошеломленный радостью (joi), // радостью (joi) любви, заполоняющей мои мечты и заботы;// это
и есть самое дорогое для меня занятие, // ведь я всегда готов для радости (joi), и именно от радости (joi) я пою…»8.
«Тому, кому ведома радость (joi), что дана мне, // (если только такими радостями (jois) можно вдоволь наглядеться и наслушаться), // тому всякие другие радости (jois) покажутся малыми // по сравнению с теми, что я владею; так велики мои радости (jois ) // …от чудной любви (de fin’amor)…9
«Ничто так не выражает человека// как его умение любить и служить дамам, // именно это мне хотелось бы воспевать и этим наслаждаться // и все это и составляет геройство. // Тот же, кто не влюблен, ничего не стоит, // так же как ничего не стоили бы // все блага мира, // если бы не дано было мне радости (joi)10.
«Скажи ей, [ мой посланец ], что мне хорошо уже от того, // что я жду от нее, моей утехи,// еще и радости, и награды, и удачи (bon’aventura)”11.
В цитированных текстах легко увидеть нечто вполне для нас тривиальное. Примерно так же мог бы сказать и автор нового времени (как и его типичный читатель): полнота любви - это и есть выражение счастья и блаженства12; синонимы счастья - это и есть удача, успех, награда судьбы13; «счастье - это когда мне хорошо и тебе хорошо»14.
Заметим, однако, что это наше первое впечатление формируется на базе предельно обобщенных критериев, в основе которых - сознаем это мы, или нет - лежит нечто воистину всеобщее, общечеловеческое, более того, свойственное вообще всему живому на нашей земле15. При использовании таких критериев речь идет об инстинктивном удовлетворении благом, об инстинктивном эмоциональном позитиве, т.е. о том инстинктивном уровне оценок, на котором всё равно самому себе.
Проблема в том, как в каждом конкретном случае таковые инстинктивные ощущения вербализуются в разных культурах и
разными людьми, как эти оценки вписываются в данный культурный универсум. Ведь в различных культурных контекстах под благом могли подразумеваться даже противоположные вещи - от благой смерти16 до всем известных эпикурейских наслаждений. Истолкование человеческого блага составляет предмет фелицитологиии как раздела этики, и именно своеобразие этого истолкования в разные времена и разными людьми может быть использовано историком для понимания и этих времен, и этих людей. В чем своеобразие понимания блага у Вентадорна?
Начиная с простейшего, замечу, прежде всего, что сюжет земного блага выступает у Вентадорна как центральный, если не единственный, предмет обсуждения. Собственно, во всех его канцонах речь только и идет о том, как достичь радости, удачи и успеха. Не нуждается в доказательствах и сосредоточенность Вентадорна на достижении блага здесь и сейчас. Поэт озабочен никак не мыслями о горнем мире или душевном спасении. Земное блаженство - вот его главная тема. При всей естественности этого ракурса у трубадура, об этом приходится вспомнить постольку, поскольку далеко не для всех певцов рыцарства того же времени это было нормой17.
Присмотримся теперь ближе к тому, чем характеризуется это земное благо в риторике Вентадорна. И «joi», и любовь как ее важнейший составной элемент, несмотря на их центральное место в культурном универсуме рыцарства (а в известном смысле, именно благодаря этой их роли), выступают не как всечеловеческие категории, но, наоборот, как исключительное достояние только этой социально-культурной категории. Иными словами, «благо», «радость», «счастье» обсуждаются как формулы, заведомо касающиеся людей избранных. Ничего общего с общекультурным осмыслением этих эмоций здесь нет и в помине. 6
Почти столь же, казалось бы, очевидно, что в центре внимания Вентадорна сугубо приватные переживания двух влюбленных. Эта приватность определена и освящена тайностью их чувства. Едва ли не главная их забота, чтобы об этих чувствах никто не прознал. Больше всего это страшит Донну, в качестве которой всегда выступает замужняя благородная дама. Иной раз, она не смеет даже взгляд бросить на своего избранника, опасаясь обесчестить себя: ведь повсюду за ней следят глаза завистников, соглядатаев, доносчиков, врунов и злыдней (lauzenger, mesonger18, enoyos, desliau19). Но и сам поклонник признается, что сделает все, чтобы обмануть соглядатаев: ведь всякая любовная joi обречена, если ее надежно не сокрыть20. Ясно, что речь всегда идет о любви запретной, опасной для обоих. Донна скована обетом брака, ее поклонник - нормами субординации по отношению к сеньору - мужу Донны. Влюбленности лирического героя в свободную от брачных уз благородную девицу наш автор просто не представляет. Иначе говоря, вся радость, все счастье и успех сокрыты, согласно риторике Вентадорна (как и других трубадуров), в любви адюльтерной.
Почему только она и манит?21 Почему - как это отмечал один из младших современников Вентадорна Андрей Капеллан - супружеская любовь (как и любовь предшествующая законному браку), не может быть даже сопоставлена с любовью куртуазной?22. Только ли дело в том, что браки в рыцарской среде заключались, исходя прежде всего из интересов линьяжа (а не личных склонностей брачующихся)? Можно ли ограничиться суждением, согласно которому куртуазная любовь символизировала своего рода бунт «молодых» рыцарей - рыцарей-холостяков - против «устроенных», женатых, против «навязываемой» рыцарству ортодоксально-церковной модели брачных отношений?23 Неужели душевные порывы, столь красочно воспетые в частности Вентадорном, 7
вдохновлялись лишь идеями социальной конкуренции молодых с более преуспевшими собратьями и вовсе не находили иной мотивации? Нельзя ли проникнуть в сферу этой мотивации и уяснить субъективные импульсы рыцарского увлечения культом дамы? Чтобы прояснить эти (и другие) вопросы, всмотримся внимательнее в некоторые особенности описания куртуазной любви у Вентадорна.
Одна из этих особенностей - вроде бы абсолютное господство в любовном дуэте дамы; мужчина выступает как сугубо подчиненная сторона. Процитирую такой, например, пассаж: «Не сравнить никакую другую радость (jois)// С той, которую я испытываю, когда моя дама поглядит на меня. // Когда ее чудные и сладостные взгляды проникают // Мне в душу, умиротворяя и вдохновляя меня. // И если эта радость длится сколько-нибудь долго, // Я готов поклясться всеми святыми // Что в мире нет большей радости…24 Примерно те же выражения звучат и в других канцонах Вентадорна: «Моей даме я и слуга и друг. // И я не прошу от нее никаких других проявлений дружбы (amistatz), // Кроме как чтобы она незаметно бросила бы на меня взор своих прекрасных глаз, // Что представит для меня великое благо (gran be), особенно, когда я в печали // И на что я отвечу восхвалением, признательностью и благодарностью, // Ибо нет в мире для меня более ценимого друга (amic)»25. «О, дорогая дама, милостивая и высокочтимая, // Смилуйтесь надо мной, ради Бога, // И не сомневайтесь же в вашем друге (amic), искреннем и сердечном. // Вы можете сделать мне и доброе (ben) и недоброе (mau); // Я в вашей власти; // Я же готов любым образом // Делать все, что вам понравится»26. «Есть радость (joie), которую дает мне пенье соловья или аромат цветов//. Я получаю однако несравненно большую радость от моей Донны и себя ||с ней||; // Это радость, в которую я погружен весь и целиком, // И это та самая радость, которая превосходит любые другие радости (joies)».27
Здесь все говорится всерьез, нигде нет и намека на иносказание или тем более на «подвох». Донна - госпожа, ее поклонник-поэт - слуга, или в лучшем случае покорный и верный друг. Радость любви выступает как высшая награда со стороны дамы, мужчина готов жертвовать собой и всеми благами мира ради Донны и ее любви. Порою, эта готовность поклонника к жертвам описывается особенно смелыми метафорами. «Я предпочел бы лишиться моих глаз, //Чем сделать что-нибудь, что не понравилось моей Донне. // Даже если бы господь сделал меня королем,// Я бы предпочел этому не сделать что-нибудь, // Что могло бы ей не понравится»28. «Признаюсь вам, что если бы она смогла ||быть верной|| //Я был бы королем Франции…»29. «Все золото мира и все деньги, // Какие я только мог бы иметь, я бы отдал, // Лишь бы моя дама поняла, // Как я возвышенно ее люблю»30. «Так как я ищу // Прекраснейшей любви, // Дающей надежду на высочайшую честь, // Я предпочитаю ее // Богатствам самой Пизы»31. «Я никогда ей не откроюсь // И никому о ней не скажу.// В этом страдании не может помочь никакой друг. // И пусть Господь погубит того, кто в это вмешается. // Я не признаю в этом прав ни за моими родными, ни за моими кузенами, // Ибо это для меня самая главная куртуазность (grans cortezia) .// Пусть же моя любовь к Донне убьет меня…32».
Эти гиперболические образы любопытны в частности тем, что рисуют чем именно готов жертвовать лирический герой Вентадорна ради любви Донны. Ее любовь выступает как наивысшая ценность куртуазного мира, превосходящая все остальные. (Также как и по отношению к уже упоминавшимся выше воззрениям, Вентадорн и в этом своем взгляде на приоритетную роль любви в куртуазном универсуме не отличается от своих современников и ближайших преемников)33. И потому, там где любовь Донны не ценится должным образом, там, где она профанируется - там мир, по словам
Вентадорна, ущербен, порочен. В таком мире нет, и не может быть счастья и благополучия34.
Чем, по мысли Вентадорна, оправдывается эта первейшая роль адюльтерной любви в достижении счастья? Чем превосходит она «все блага мира», все «другие радости», всех друзей и родных, все другие почести и даже самую жизнь? В текстах Вентадорна не найти ни эксплицитного ответа на эти вопросы, ни даже намека на интерес к ним со стороны лирического героя поэта и его читателей. Всем им и так как бы все ясно. Ясно ли это, однако, современному читателю? Вправе ли он отождествлять смысл и подтекст знакомых ему по новоевропейской риторике поэтических метафор любовного страдания с тем, о чем писал Вентадорн?..
Как и все его собратья, Вентадорн во многих случаях именует любовь к Донне специфическим термином fin’amor - «прекрасная» или «возвышенная» любовь. Любовная страсть к Донне как бы противопоставляется любым иным аналогам любви. Чем именно отличается эта иная любовь?
Из уже приводившихся текстов видно, что одним из ее составных элементов выступает радость лирического героя от самого факта благосклонности Донны, от ее согласия обернуть на него свой взгляд, от готовности считать рыцаря своим другом35.
Есть однако и другой, не менее важный элемент этой страсти, противоположный платонической любви. «Плохо бы поступила Донна, если бы не позвала меня // Придти туда, где она раздевается, // Чтобы я был по ее волеизъявлению // Около ее постели, около ее края, // Чтобы снять с нее аккуратно прилаженные башмачки, //Смиренно стоя на коленях // И лаская ее стопы, если ей это понравится»36. «Я понимаю, что вижу самую прекрасную// С ее восхитительными глазами и свежайшим цветом лица. // Я бы так целовал эти уста, // Чтобы и через месяц оставался на них след.// Я хотел бы застать ее
одну, // Когда она спит или кажется что спит, // Чтобы украсть сладкий поцелуй, //Ведь я не решаюсь просить ее об этом. // О, Господи! Донна, поговорим же немного о любви! // Ведь уходит лучшее время!»37. «Мне кажется теперь, что я умру //От желания, которое ко мне пришло, //Если только моя прекрасная // Не доставит мне радость быть около нее там, где ей приятно, // Чтобы я мог ее ласкать и обнимать // И сжимать в своих объятиях // Ее белое, пухленькое, атласное тело»38. «Своим телом она свежа, стройна и весела, // Нет других, столь грациозных. // По своей замечательности и красоте, по достойности и уму // Она выше, чем все, о чем я мог бы сказать. // Все, что есть хорошего, можно было бы про нее сказать, // За исключением того, что не хватило у нее смелости, // Чтобы однажды ночью провела бы она меня туда, где она раздевается, // В то приятное место // И обняла бы там мою шею своими руками .// Почему же не отведет она меня туда, где ей приятно, // Чтобы я мог созерцать ее прекрасное и грациозное тело, // Почему же не делает она этого! // Увы, я умираю от желания! //Не хочет ли моя Донна убить меня // За то, что я ее люблю? Почему она не обратит на меня внимания?»39.
Самое простое - увидеть в приведенных текстах вербализацию обыкновенной мужской похоти40. Присмотримся, однако, внимательнее к словам Вентадорна. Поэт акцентирует в них не столько реализацию чувственных желаний мужчины, сколько сексуальную игру. Его лирический герой поглощен прежде всего чувственно-созерцательными элементами этой игры. Желание обладать возлюбленной выступает как самоценность41.О самом соитии ни в одной из канцон Вентадорна вообще нет речи, несмотря на то, что наш автор, как это видно из уже цитированных текстов, не стесняется затрагивать самые интимные стороны взаимоотношений с Донной. Лишь в так называемых Разо (комментариях современников к канцонам Вентадорна), подразумевается однажды половой акт, но
выглядит он там как нечто едва ли не шокирующее42. Самое слово «femme» («женщина») - в его чувственных коннотациях - Вентадорн вообще не употребляет, хотя оно использовалось в поэтической литературе со времен Песни о Роланде (1080 г.)43. Вместо «femme» Вентадорн использует термин «domna», имеющий гораздо более возвышенный смысл. Даже в самых чувственно насыщенных текстах Вентадорна, это не столько женщина, телом которой мужчина стремится овладеть, сколько партнер в куртуазной игре.
Это игра по правилам, признанным и воспетым мужчиной-поэтом. В ней принято будоражить плоть, кружить вокруг сексуальных желаний. Но судя по контексту, самое существенное в этой игре - необходимость все время балансировать на грани между сексуальным соблазном и воздержанностью44. Минули времена, когда, как в знаменитых Жестах, благородные мужи не ухаживали за женщинами, но овладевали ими. Новые песни обыгрывают иные нормы. Замужняя Донна, особенно если это супруга сюзерена, по определению неприкосновенна; во всяком случае, насилие над ней исключено45. Тем желаннее эта запретная Женщина как объект плотских притязаний, притязаний, для которых однако заранее установлен жесткий предел.
Суметь не перейти этот предел, и в то же время насладиться всеми прелестями дозволенной игры - вот ближайшая цель куртуазного поклонника. Эта игра сулит плотские утехи, но не только их. В ней можно обрести и самоудовлетворение - от умения соблюсти установленные нормы - и утвердить себя в глазах окружающих - благодаря своему личному успеху, достигнутому вопреки и в пику соперникам. Никакой иной вариант любовной интриги этот не заменит. Ухаживание за девицей на выданье вряд ли нужно: та, что избрана в законные супруги, станет ею и без этого. К чему здесь ухищряться!46 Игра же с Донной может и прославить, и возвысить, и
порадовать. В ней сокрыты истоки успеха, в ней выражаются удача, радость, рыцарское счастье47.
Речь, как видим, об успехах и радостях мужчины, а вовсе не женщины, господство которой в любовном дуэте акцентируется формой канцон Вентадорна. Конечно, самое появление женщины в качестве лирической героини немаловажно. Тем более, что мужчина-поэт позволяет ей иной раз взять слово48, признает за ней формальное право судить о его достоинствах, награждать его своей благосклонностью, разрешать (или не разрешать) играть с собою. Но все это остается в рамках большой мужской игры. Женщина выступает здесь - вопреки формальным поэтическим фигурам - не субъектом, но объектом этой игры49.
Я говорил выше, что в центре внимания Вентадорна приватные переживания рыцаря и дамы. На первый взгляд, эта приватность кажется очевидной. Внимательнее присмотревшись к взаимоотношениям двух лирических героев в канцонах Вентадорна, можно констатировать ее существенное своеобразие. Оказывается, тайна куртуазной любви лишь игровая. Формально, о fin’amor никто не должен знать. Фактически, она существует («играет») лишь при условии, что о ней знают все. Только в этом случае поклонение Донне может принести рыцарю искомое удовлетворение и успех, а заодно и удовлетворить самолюбие самой Донны.
Иначе говоря, приватное здесь выступает как нечто не вполне приватное. Разграничение частного и публичного не имеет ничего общего с их новоевропейским обособлением. Две эти сферы не только не имеют между собой четкой границы, они как бы инкорпорированы друг в друга. Соединяясь в некое размытое целое, они в то же время парадоксальным образом разъединены. Граница между ними, знакомая по новоевропейским меркам, не могла бы рассматриваться как результат эволюционного нарастания их различий, как бы
закладывавшихся в Х11 в. Перед нами странное «частное» и не менее странное, инакое «публичное».
И, тем не менее, кое-что заставляет говорить о появлении у известной для средневековья размытости этих граней50. некоего нового элемента. Хотя бы словесное признание возможности для поклонника и его дамы скрывать свои отношения многого стоит. Окружающие как бы допускают право этих двоих на тайну. Тут же «экспроприируя» его, они, тем не менее, невольно открывают дорогу становлению некоего не существовавшего до этого в риторике отождествления частного с чем-то личным, интимным.
Было бы однако неоправданным видеть в этом свидетельство сближения с новоевропейскими представлениями. В риторике Вентадорна куртуазную страсть питает стремление соединиться с любимым существом скорее в грезах, чем в реальности, и заведомо на время, а не навсегда, на время игры, а не всерьез и надолго. Любовное чувство переполняет и душу, и тело влюбленного. Но его самоотверженность в любви питается столько же надеждой на взаимность, сколько престижностью затеянной игры. Он всеми силами стремится к возлюбленной, но форма поклонения ей рисуется ему столь же важной, что и самое поклонение. Использующееся в специальной литературе понятие «культ дамы» оправданно, пожалуй, здесь в самом тесном смысле этого понятия (и даже только в нем). Речь идет о некоем ритуальном культе, в котором однако нет знакомых нам по меркам новоевропейской любви ни раскованности, ни подлинной интимности. В этом смысле, куртуазная любовь - вопреки часто высказывавшимся мнениям - коренным образом отлична от новоевропейской и не может быть поставлена в общий с ней семантический ряд, не может рассматриваться как этап в ее эволюционном становлении. Лишь один элемент в риторике Вентадорна требовал бы иного осмысления - идея взаимности любовного чувства. В Жестах, да и в других жанрах средневековой литературы Х1 - Х11 вв. любовной лихорадкой болели обычно женщины. Мужчины либо «заражались» этой страстью-болезнью, либо нет. У трубадуров, и в частности, у Вентадорна - это чувство захватывает мужчину и - в том странном варианте, в котором оно реализуется - переносится на женщину, позволяя ей испытывать любовь в не меньшей мере, чем мужчине.
Вернемся теперь к вопросу, поставленному в начале этого этюда.
Что открывает риторика Вентадорна исследователю, стремящемуся осмыслить понимание поэтом радости и счастья и - шире - уяснить жизненные приоритеты его самого и его читателей?
Вентадорн не раз упоминает имя Господа. Его высшая власть не вызывает сомнений. Но Он так далек от всего, что волнует лирических героев поэта… Их жизнь и судьба в их собственных руках. И именно земные дела, земные успехи и горести земных людей только и волнуют нашего автора. Мир горний просто не вмещается в его виртуальное пространство. Себя любимого, своих возлюбленных Донн, своих собратьев по «трубадурскому цеху» Вентадорн рисует полностью погруженными в мирскую жизнь с ее радостями или огорчениями. Только на этом мирском счастье зиждется и виртуальный мир, и сама жизнь.
Господь может «сделать меня королем», пишет Вентадорн51. Но поэту не это нужно: важней «понравится ей». Хорошо бы Господь «погубил тех, кто вмешивается» в дела влюбленных52. Но главную награду трубадур ждет не от Него, но от нее. «Она» может смиловаться над поклонником «ради Бога»53. Но добиться ласкового взгляда Донны или, тем более, ее поцелуя герой может только сам. Иными словами, все признаваемые поэтом блага мира (и самое его совершенство, или наоборот, ущербность54) зависят не от предвечных установлений, но от действий куртуазных героев, от их поступков, от решений, которые они сами выбирают.
Этот выбор однако не беспределен. Он ограничен кодексом правил, преступать которые непозволительно. Не из-за каких бы то ни было юридических санкций, но в силу внутренних запретов, четко обозначающих дозволенное и недозволенное. Этот кодекс правил нигде прямо не прописан55. Но судя по тому, что уже с конца Х1 в. упоминание более или менее сходных достоинств, необходимых для истинного рыцаря, можно встретить и в литературных текстах, и в ученых трактатах56, он прочно укоренен в сознании (или даже в подсознании). Его своеобразие однако не только в этом. Непостижимым для нас образом он соединяет, (а не противопоставляет) ориентированность на «норму» (т.е. на «правильное поведение») и на ее нарушение57 (вне так называемых «правильных» нарушений), т.е. на необычность, оригинальность, индивидуальность или даже чудачество в поступках конкретного человека. Именно поэтому неписанный кодекс чести рыцаря предполагает, что, следуя принятым нормам поведения, он в то же время может и должен искать им нетривиальное воплощение58. Только найдя таковое, рыцарь сможет обратить на себя внимание и утвердить себя и в собственных глазах, и в глазах окружающих.
Отсюда кажущаяся нам «театральность» рыцарского поведения в целом, и в частности, в поклонении Донне. Каждый шаг лирического героя Вентадорна совершается как бы напоказ, имеет знаковый смысл и, по идее, представляет результат индивидуального выбора данного героя59. Соединяя верность тому, что в это время принято, и параллельно, нестандартность в реализации принятого, этот герой больше всего озабочен своим реноме. Ради этого реноме - и ради того счастья, которое оно сулит - можно забыть обо всем на свете, включая не только богатства, королевские милости и расположение родных, но даже и потустороннюю судьбу.
Мне кажется, есть немало оснований назвать странным это представление лирического героя Вентадорна о счастье . Что вкладываю я в это слово? Что вообще вправе мы именовать странным, инаковым, чуждым нам? Очевидно, исходным для таких определений выступает наш собственный исследовательский и человеческий опыт: мы относим к странному и чуждому то, что в этот опыт так или иначе не умещается.
При этом «не умещаться» подобные феномены могут по-разному. В одних случаях дело идет о чем-то отличном лишь в более или менее важных чертах, но согласующемся со знакомой нам логикой. В других случаях может подразумеваться нечто вовсе ей чуждое. Странным и инаким именуется тогда то, что вовсе выпадает из всех наших мыслимых представлений о данном сюжете, т.е. речь идет об инаком, которое никоим образом не поддается включению в известный нам семантический ряд представлений. Такого рода казусы в принципе не встраиваются в знакомое нам логическое поле рассмотрения данного сюжета, они полностью выпадают из привычного эволюционного его рассмотрения. Это - крайняя форма инакости, чуждости, странности.
Как мне кажется в риторике Вентадорна, касающейся рыцарского счастья, есть обе упомянутые формы инакости и странности.. Первая - простейшая ее форма - представлена там, где речь идет о соотношении земных и горних ценностей, о приоритете мужчины или женщины в их любовных взаимоотношениях, об игровом характере этих взаимоотношений, о нарастании их интимности. Рыцарское счастье выступает здесь как состояние, которое, отличаясь от известного по новоевропейскому опыту, тем не менее, так или иначе подобно ему и может рассматриваться в эволюционной ретроспективе.
Другое дело, когда критерии счастья рыцаря оказываются связанными с вовсе чуждым новоевропейскому человеку, погружению в куртуазный культ Донны, или в поиск личного успеха в неподдающейся никакому разграничению частно-публичной сфере. Аналогичным образом, оказывается вовсе чуждым и странным представление рыцаря о возможности достичь успеха, соединяя соблюдение принятой нормы поведения с ее нарушением. В этих случаях можно было бы называть представления рыцарей инакими и странными в самом полном (и крайнем) смысле этих слов. Здесь уместно было говорить о подлинно странном, очень странном счастье…
Вправе ли мы судить об этих странностях, опираясь на слова поэта?
Слова, слова, слова…Но разве не в них ответ на вопрос о том, какие слова употреблялись в рыцарском мире, чтобы потешить душу, чтоб высказать наболевшее, или же чтобы утаить нечто иное. В этих словах причудливо преображены внутренние побуждения людей иного мира и иной закваски. Но это они - люди другого мира - спровоцировали эти слова, над разгадкой которых суждено нам биться.
1 После классической работы Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти» (М., 1992) эту тему разрабатывали десятки специалистов, включая таких известных авторов, как Ж. Ле Гофф, М. Вовель, Р. Шартье, Ж. Шифоло, А. Я. Гуревич и мн. др. Специально о восприятии смерти в рыцарской среде см. мою работу: «Риторика рыцарской скорби по данным 18
англо-французской литературы Х11-Х111 вв.»// Человек и его близкие. М., 2000
2 Freedman P. and Spiegel G.M. Medievalisms Old and New: The Rediscovery of Alterity in North American Medieval Studies // AHR, vol. 103, 1998, N3 ; Goetz H.W. Interdisziplinarität im Rahmen eines Perspektivenwandels heutiger Geschichtswissenschaft // Das теMittelalter , B.4 , 1999.S. 49-51.
3 См. Ю.Л.Бессмертный. Это странное, странное прошлое…//Диалог со временем, № 3, М.,2000
4 См. Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М., 1975. С. 72-111; он же. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров.//Жизнеописания трубадуров. М.,1993. С.507-549; М.Л.Гаспаров. Любовный учебник и любовный письмовник…//Там же. С. 571-572; Блонин В.А. Любовные связи и их литературное преломление во Франции Х11 в.// Человек в кругу семьи…М.,1996. С.157-179; Brunel-Lobrichon G., Duhamel-Amado Cl. Au temps des troubadours. X11-X111 s.P.,1997. P. 35-54; 231-233; Bloch R.H. Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love. Chicago, 1991;Baldwin J.W. Les langages de l’amour dans la France de Philippe Auguste. P., 1997.P.181-280; Lafont R. Le chevalier et son desir P, 1992; Paterson L. The World of the Troubadours. Cambridge,1993; Huchet J.-Ch. L’amour discourtois. Toulouse,1987 etc.
5 Мейлах М.Б. Язык…С.88-89
6 Дынник В.А. Бернарт де Вентадорн. Песни. М., 1979. С. 209, 194, 218
7 Я цитирую тексты Вентадорна в переводах со старо-провансальского по изданию Billet L. Bernard de Ventadour, troubadour du X11-e siècle, promoteur de l’amour courtois, sa vie, ses chansons d’amour. Tulle,1974. При этом я использую лишь те кансоны Вентадорна, которые бесспорно ему атрибутированы (см. Михайлов А.Д. Обоснование текста. Дынник В.А. Цит. соч. С.235-239). Я был вынужден отказаться от использования стихотворных переводов песен Вентадорна, выполненных
В.А.Дынник, вследствие их частого несоответствия оригиналу (вплоть до привнесения в текст отсутствующих в нем высказываний, см. ниже). Нумерация канцон Вентадорна указывается по изданию Бийе.
8 Billet XX1X, 1
9 Ibid, 2
10Ibid, X1X, 4
11Ibid., XXY1, 8. Словосочетание bon’aventura принадлежит к числу наиболее близких по смыслу к слову bonheur , возникшему в северофранцузском ланг’дойль в том же Х11 в., что и песни Вентадорна
12 Померанц Г. Подлинное и призрачное счастье // Континент, 1998, № 4. С.309
13 Там же. С.310-317
14 Самиздат века. Составители: А.Стрелянный, Г. Сапгир, В. Бахтин. Минск - Москва. 1998. Рис1 после С.848
15 Неслучайно, Вентадорн то и дело сопоставляет joi влюбленного с joi жаворонка или соловья или вообще с ликованием всякой живой твари: Billet, XY111, 1: Can lo dous tems comensa// E pareis la verdura // E’l mons s’esclair’ e gensa // Et tot cant es, melhura// Chascuna creatura// S’alegra per natura…; ibid., XY1, 1: Can vei la lauseta mover // De joi sas alas cotra’l rai//…
16 См. например, Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С.411 и сл.
17 См. Бессмертный Ю.Л. Рыцарское счастье, рыцарское несчастье по трактатам Филиппа Новарского// Готовится к печати.
18 Billet, XLY11, 7;
19 Ibid., X1Y, 6
20 Ibid., XLY1, 7
21 Как отмечалось в специальных исследованиях, отношение к адюльтеру у разных французских писателей Х11 в. было различным. В стихотворной версии «Тристана и Изольды» адюльтер сурово осуждается не только церковью, но и придворной элитой. Кретьену де Труа ближе идея совмещения высокой любви и брака, совмещения, исключающего самую
необходимость адюльтера. В прозаических романах более позднего времени любовь к даме прославляется как самодостаточная ценность. Труверы и трубадуры (как и Андрей Капеллан) воспевают любовь поклонника именно к замужней Донне (Payen J.Ch. Le Roman. Turnhot-Belgium, 1975. P.40-43; Lazar M. Аmour courtois et fin’amors dans la littérature du X11 siècle . Р.,1964). Я стремлюсь вникнуть в мотивы этой трактовки адюльтерной любви у Вентадорна.
22 Andreae Capellani de Amore libri tres. Ed. S. Battaglia .Roma, 1947, 11, 7,9: «супружеская привязанность и солюбовническая истинная нежность должны почитаться различными и начало они берут от порывов весьма несхожих. Само слово, их обозначающее /Amor/ двусмысленно и посему воспрещает всякое сравнение между ними, разнося их по разным родам: невозможно совершить сравнение через «меньше» и «больше» между предметами , лишь по названию одинаковыми» (перевод М.Л. Гаспарова, «Жизнеописания трубадуров». С.391-392)
23 Duby G. A propos de l’amour que l’on dit courtois. // Idem. Male Moyen age. P. 1988. P. 78-79; Köhler E. Trobadorlirique und höficher Roman. Berlin, 1962..
24 ХХ111, 6
25 ХLУ1, 3.
26 Х1Х, 6
27 У, 1
28 XLY, 4
29 ХХУ, 6
30 11 , 5
31 ХХХ1, 2. Аналогично : 11, 5 : « Tot l’or del mon e tot l’argen // I volgr/aver dat, s’eu l’agues// Sol que ma domna conogues// Aissi com eu l’am finamen» (Все золото мира и все серебро я рад был бы отдать ради того , что моя Донна узнала, насколько чиста и прекрасна моя любовь к ней). Как не раз подчеркивает Вентадорн, любовь не зависит от богатства или бедности рыцаря, она всех уравнивает (L,5; XXXY111, 3; 1, 4)
32 ХХ111, 4; любопытно, что тот же мотив встречается и у трубадуров следующего, тринадцатого века. Так Бонифаций де Кастеляно пишет: «Mauri, us joys me conorta,//Qu’ieu sai be que la plus valenz// Me vol mais que totz sos parenz” (Bonifazio di Castellana// Romania, 1920, N2).
33 Thibaut de Champagne .Por conforter ma pesance: … Melz aim de li l’acointance// Et le douz non// Que le Roiaume de France (Мне дороже ее присутствие и ее милое имя чем все королевство Франции) // Anthologie de la poésie lyrique française des X11-X111 s. P., 1989. P. 169: Blacasset: “Pois rendels comtes no’m chal// Ni lur guerra venarzal// Non voil, sol qe ab vos sia “ (Ради того, чтобы остаться наедине с вами || Донна|| я готов забыть обо всех графах вместе с их пошлыми войнами)// Любопытно, что вся основная часть этой сирвенты посвящена, наоборот, прославлению боя, военных стычек и щедрых графов. См. Aurell M. La vielle et l’épée…P., 1989. P.263
34 Х1Х, 1: “Ges de chantar no’m pren talans,// Tan me peza de so que vel,// …Per que pretz e cortezia // E solatz torn’en no-chaler” (Нет больше охоты петь, //Так мне все опротивело,//…Ибо нет больше ни доблести и куртузности, // Ни отрады душе…); аналогично: XL111, 3.
35 См. прим. 25-26.
36 ХХХ11, 5
37 У, 5-6. Дынник добавляет здесь от себя: «покров с нее откинуть в тишине» (см. С.90). Аналогично в канцоне ХУ111,7 Дынник добавляет «дверь вашего покоя// открыть ночной порою// и вас обнять нагую» (С.46).
38 ХХ1У, 4 . Дынник вставляет здесь: «Коль с Донны сняв покров во мраке я б дерзал…» (С.48)
39 Х, 5-6 Дынник вводит здесь «ложе ночных наслаждений» и «безмолвные нагие объятия» (С.19).
40 Ни один из текстов Вентадорна не дает ни малейших оснований говорить о том, что под fin’amours можно было бы подразумевать гомосексуальную любовь молодого рыцаря по отношению к сеньору - мужу Донны, cf. Marchello-Nizia Ch. Amour courtois, societe masculine et figures du pouvoir // Annales, 1981, N6. P. 969-983.
41 Эту особенность сексуальной игры в риторике Вентадорна можно обнаружить и в ряде других литературных текстов конца Х11 в. См. об этом: Baldwin J. W. Les langages de l’amour dans la France de Philippe Auguste. P.,1997. P.242-256: “Suprématie du désir : la sexualité sаns coït et le désir de Dieu», особенно, Р.246-247.
42 «Бернарт звал ее | свою возлюбленную Донну| «Жаворонок» из-за ее любви к одному рыцарю; тот тоже любил ее, и она называла его «Луч». И однажды этот рыцарь пришел к герцогине и вошел в спальню. Увидев его, донна подняла полу платья , вскинула до самой шеи и упала на кровать. А Бернарт все это видел, так как девица, приставленная к донне, тайно все ему показала…» (Перевод В.А.Дынник, цит. соч. С. 103). В сочиненной по этому поводу канцоне Вентадорн клянет свою судьбу, возлюбленную, женщин вообще и решает бежать, куда глаза глядят (Billet, ХУ1, 8)
43 Dubois J. et autres. Dictionnaire Etymologique et Historique du francais. P.,1994. P. 294.
44 Жан Фрапье писал в связи с этим о «дисциплине страсти», регулирующей эротическое желание и приукрашивающей его (Frappier J. Amour courtois et Table ronde. Genéve , 1973. Р.3). Я не вижу оснований полагать, что, как считают некоторые специалисты, Донна «должна была в конце концов пасть», по самому “закону жанра” (см. в частности: Duby G., Geremek B. Passions communes. P.,1992. P. 87; cходных позиций по этому вопросу придерживаются: Jacquart D. et Thomasset Cl. Sexualité et savoir médicale au Moyen Age. P., 1985 ; Nelli R. L’Erotique des troubadours, t.1 . P., 1974. P. 381-382 ; эту же точку зрения разделяет Р.А. Фридман, одна из первых исследовательниц лирики ттрубадуров в нашей стране, см. « Любовная лирика трубадуров и ее истолкование » // Ученые записки язанского гос. пед. Института, т. 34, М.,1965, а также В.А.Дынник - переводчица канцон Вентадорна, которая, как уже отмечалось выше, привносит в ряд переводимых ею текстов соответствующие этой трактовке выражения). Во всяком случае, в риторике Вентадорна этот исход не предопределен.
45 Весьма поучительны строки Тибо Шампанского (начало Х111 в.), вложенные в уста одной из Донн: «Я - запретна , ибо являюсь супругой сеньора. Тишина вокруг меня исключает признания в любви. Немой контроль свыше заставляет любого опустить взгляд, брошенный на меня…Я - сокровищница святынь, святая святых, зачаровывающая мужчину, который может лишь застыть на моем пороге … » (Цит. по : Faure M. “”Aussi com l’unicorne sui”, ou le désir d’amour …”// Poètes du X111 s., Revue des langues romanes, t.88, 1984. P. 18-19.
46 Лишь на рубеже Х11-Х111 вв. в литературе появляется описание рыцарских подвигов как прелюдии к законному браку (Duby G. Geremek B. Op. Cit. P.89). Возможно, это отражало тенденцию переосмыслить куртуазные ценности в момент, когда брак становится одним из признанных христианских таинств.
47 Достаточно ли, как это делает Жорж Дюби, видеть в куртуазной любви форму «обучающей игры» (Duby G. Mâle Moyen âge. Р.,1988. Р.75: “La fine amour est un jeu. Educatif. C’est l’exact pendant du tournoi…”), т.е. своего рода процесс аккультурации? Не заслуживают ли специального внимания субъективные импульсы, руководившие рыцарем в этой игре? Это позволило бы лучше понять широкое увлечение поэтов и писателей описанием fin’amour, и заразительный интерес к ней со стороны средневековой (и не только средневековой) публики. Именно в специфике этих субъективных импульсов вижу я одно из выражений своеобразия куртуазной любви, позволяющее увидеть ее глубинную инакость по сравнению с новоевропейской любовью.
48 X1X, 3: “Can eu remire so cors gai // …sa cortezi’ e sos bels ditz, //Ja mos lauzars no m’er avans…”; аналогично: ХХХ1Х, 8
49 Отмечая эту особенность куртуазной любви, Дюби, как уже отмечалось выше, ограничивается характеристикой ее объективного смысла, см. Duby G. Op. Cit. P.76
50 См. Ю.Л.Бессмертный. Частная жизнь и индивид. // Человек в кругу семьи. М.,1996. С.348-349.
51 XLY,4
52 ХХ111,4
53 Х1Х, 6
54 См. примечание 34.
55 Самое использование в данном случае термина «кодекс» более чем условно (см. Pastoureau M. Les Chevaliers. P., 1992. P.10).
56 Одно из первых таких упоминаний см. Bonizon de Sutri. Liber de vita christiana , ed. E.Perels. Berlin,1930, L. Y11, Ch. 28.
57 Как известно, Ю.М.Лотман рассматривал (вполне обоснованно) эти две ориентации как характерные в целом для разных типов культуры («Декабрист в повседневной жизни. Бытовое поведение как историко-психологическая категория. // Литературное наследие декабристов. Л.,1975. С.26)
58 Своеобразие рыцарского кодекса чести - тема, заслуживающая специального внимания, и я лишь попутно касаюсь ее в этом очерке.
59 Ср. Лотман Ю.М. Цит. соч. С.56: «Знаковое поведение - всегда результат выбора и следовательно включает свободную активность субъекта поведения»