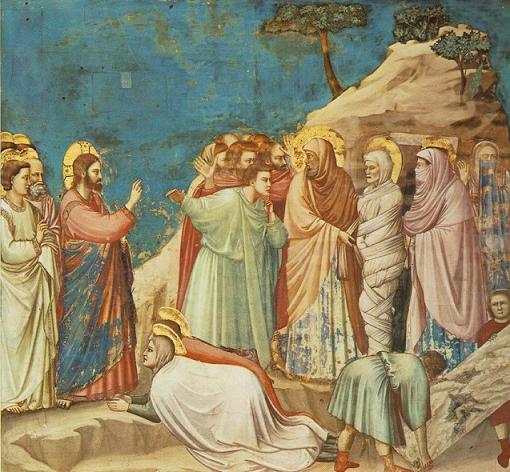1.
ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО В ОЦЕНКЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ
Архимандрит Августин (Никитин)

Мне большего не нужно, сын мой. Я знаю Христа бедного и распятого.
Св.Франциск.
Кажется, совсем еще недавно по призыву ЮНЕСКО весь мир отмечал 800—летие со дня рождения святого Франциска, жизненной миссией которого было «следовать учению Христа и идти по Его стопам». И, сегодня, как и раньше мы помним Святого. В преддверии третьего тысячелетия христианской эры нам следует еще раз обратиться к этой удивительнейшей личности в истории человечества. Тем более, когда наша российская цивилизация и культура находится в столь сложном положении, — нам крайне важно обратиться к этому источнику чистейшей христианской духовности, чтобы с его помощью и с помощью Божией попытаться осмыслить сущность христианской культуры и некоторые особенности христианского исторического пути.
Теперь мы обращаемся к Франциску в связи с публикацией нового перевода «Цветочков» — знаменитых легенд о его духовном подвиге и его жизни. Эта жизнь, этот подвиг настолько уникальны, удивительны и чудесны, что, строго говоря, даже в простых биографических сведениях нам следовало бы поискать знаменательное: в местах его пребывания, в местах молитвы, иногда нам хочется видеть некие знамения для человека и человечества.
Человек, которому впоследствии суждено было стать основателем крупнейшего монашеского ордена, проповедовавшего бедность, родился в богатой семье в 1182 г. Его отец Пьетро ди Бернардоне был из так называемого «жирного народа» (il popolo grasso), был преуспевающим торговцем сукном. Поначалу жизнь Франциска не представляла ничего особенного. Это был молодой провинциальный повеса, наслушавшийся необычайных тогда рассказов и песен о великих провансальских рыцарях-трубадурах. Сам снедаемый жаждой рыцарских подвигов, Франциск в 1202 г. участвует в войне между Ассизи и Перуджей, где в стычке у моста Сан Джованни попадает в плен. Год спустя, Франциск с помощью родных освобождается из плена. Он восстанавливает силы. В 1205 г. он отправляется в путь снова, чтобы вступить теперь уже в папскую армию. Вот этому странствию и суждено было стать его «дорогой в Дамаск». Он добрался до Сполето, именно там, по преданию, на него снизошло видение, наставляющее его вернуться в Ассизи и ожидать зова к свершению благих деяний. Дома он уединяется и погружается в молитвы. Потом он совершает паломничество в Рим с толпой нищих, живя на подаяния и испытав здесь все тяготы бедности. Долгожданный зов он услышал в полуразрушенной церкви Сан Дамиани на окраине Ассизи. От Распятия над алтарем вдруг прозвучал призыв: «Ступай Франциск и восстанови разрушенный дом Мой». Здесь же, 24 февраля 1208 г., он вдруг с особенной силой проникся словами Христа, какими Он напутствовал Своих учеников в их проповедовании Его Благой Вести: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». (Мф 10,39)
Теперь, наконец, смысл жизни и призвание стали для Франциска предельно ясны. Отрекшись от всех мирских радостей и облачившись в самую бедную одежду, он начинает свой путь подражания Христу в проповеди, в молитве, в посте и покаянии. Вокруг него быстро стали собираться последователи. 16 апреля 1209 г. составленные Франциском «Правила» для членов образовавшегося братства «Меньших братьев» получили одобрение папы, официально закрепившее существование Ордена. Почти с этого же времени ряды последователей Франциска пополняются и женщинами, для которых Франциск, спустя три года, учредил второй Орден, известный как Орден кларисс, по имени первой его последовательницы Клары Оффредучи. В 1212 г. Франциск намеревался посетить святые места, но судно потерпело кораблекрушение в Адриатическом море, и ему пришлось вернуться на родину. Затем, в 1219 г. он отправился в Египет, где крестоносцы вели осаду Дамьетты. Согласно преданию, Франциск проник в лагерь мусульман-сарацинов и пытался проповедовать там о Христе.
В последние годы жизни болезни особенно преследовали его. Ему пришлось отказаться от замысла побывать во Франции и Испании. Кроме того, духовная потребность, а так же расширяющееся движение его последователей настоятельно требовали изменения и дополнения «Правил». И он остается в Италии. В окончательном виде «Правила» были утверждены папой Гонорием III в 1223 г.
Эта настоятельная потребность духовного роста, эти труды в подражании Христу, в конечном счете, и выразились в том, что в 1224 г. он с тремя своими последователями отправляется на гору Верния в Тоскане, чтобы там стяжать новые, доселе невиданные, духовные подвиги. Потом, во время молитв и скорби о крестных муках Христа, на него снизошло видение шестикрылого серафима. Когда оно исчезло, на теле Франциска обнаружились «стигматы», т.е. следы ран Христа на кистях, стопах и на боку. К Рождеству 1225 г. Франциск возвращается в церковь Санта Мария дельи Анджели, и, несмотря на окончательно подорванное здоровье и прогрессирующую слепоту, в течение нескольких месяцев 1225 г. он разъезжает по Умбрии, обращаясь с наставлениями и проповедями к жителям провинции. Зрение Франциска продолжало ухудшаться, поэтому братья по Ордену отвезли его в Риети на лечение, но оно оказалось безуспешным. После непродолжительного пребывания в Сиене Франциска привезли на его родину в Ассизи, где он и скончался в монастыре при Санта Мария дельи Анджели 3 октября 1226 г. на руках у своих первых братьев-сподвижников: Массео, Анджело, Сильвестро, Иллюминато. Папа Григорий IX канонизировал Франциска в следующем 1228 году.
Самое удивительное в св.Франциске — это поразительная цельность и целеустремленность пребывания его личности во Христе. Хотя сама его жизнь так сложна и многогранна, что каждое поколение верующих находит в нем то, в чем испытывает потребность, или что хочет отрицать. Духовная деятельность св.Франциска в разное время по-разному оценивалась русскими православными богословами и мыслителями, здесь мы остановимся лишь на некоторых оценках.
Ранний этап внимания к духовной деятельности св.Франциска представлен авторами, занимающими различное общественное положение, — это епископ Игнатий Брянчанинов и писатель Ф.М.Достоевский.
Епископ Игнатий (Брянчанинов) — духовный деятель православно-консервативного направления. Поэтому неудивительно то, что он объявил вообще всю католическую аскезу «прелестью», находя в ней «ложное понятие о духовных предметах и о себе, которое подвижник считает истинным».
Совсем другое мироощущение у Достоевского. Он целиком впитал в себя мистический опыт Запада и даже пошел дальше, пытаясь перенести его на почву России, но делал это очень осторожно. В «Братьях Карамазовых» он даже не решается ввести имя святого, а дает лишь его образ. Он сравнивает старца Зосиму с «Pater Seraphicus». Достоевскому импонирует в св. Франциске, прежде всего его широчайшая любовь. Эту любовь писатель пытается расширить до полной универсальности, до полного самозабвения по отношению к своему герою. Достоевский создал здесь образ «русского инока», спасающего мир от рабства неверия и Антихриста.
Следует упомянуть и работы о св. Франциске замечательного историка, философа и богослова Л.П.Карсавина. В одной из своих работ он обратил внимание на первоначальные взаимоотношения учеников и братьев св.Франциска.: «Первоначальное братство (до начала 1220 г.) было новым явлением в Церкви ... Минориты подражали Христу и апостолам, воспроизводя их жизнь, но поняли они ее не традиционно, как каноники, а по-новому». Другой капитальный труд Л.П.Карсавина, посвященный основам средневековой религиозности помогает лучше выявить особенности личности св.Франциска на фоне характерных черт эпохи. Карсавин пишет: «Самопроизвольно возникающие организации мирян и основанные Франциском, францисканцами группы, выливаются в одинаковые формы, стремятся к одному и тому же идеалу». В нищенствующих орденах, как и в папстве, нашла себе новые орудия универсальная (т.е. вселенская) идея, — делает вывод автор. Примечательно, что Карсавин не трактует духовную цельность св.Франциска как некий монолит, лишенный внутренней динамики. Он сознательно обостряет противоречия, которые были присущи св.Франциску в его повседневной практике и называет их антиномиями сознания. Он пишет об этом так: «Справедливая в общей своей форме антиномичность сознания особенно применима к изучаемой нами эпохе. Франциск Ассизский любит природу, восхищается ее красотой в «Гимне брату Солнцу», он жалеет и любит свое тело, бедного «брата осла». И он же изнуряет свое тело чрезмерной, достигающей пределов гастрономии аскезой, подавляет в себе естественнейшие и невиннейшие желания. Поэт пантеистической любви вдруг становится упорным борцом с демонами. Непосредственное подражание Христу и свободное понимание Его заветов чередуется в нем с формализмом и буквоедством». Упомянув о том, что Франциск Ассизский и его сподвижник брат Эгидий «ищут символов в окружающем мире» Карсавин формулирует еще одно положение: «Благодаря символизму, индивидуальное, не теряя вполне своего интереса, поглощается и преодолевается общим» и, далее, он пишет так: «Не потому отщепенцы францисканского движения отстаивают свой образ жизни, что они верят в его истинность, а потому, что так приписывает устав. Устав же — Евангелие Христа».
Можно было бы остановиться и на других авторах, уделявших так же много внимания св. Франциску. К их числу относятся Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, М.В.Лодыженский, А.А.Блок, Д.С.Мережковский, прот. Г.Флоровский, И.А.Ильин и др.
Но нам в заключении представляется возможным привести только оценки Н.Арсеньева — профессора Св. Владимирской Духовной семинарии в Нью-Йорке. Он часто касался проблемы единства христиан, пытаясь найти точки соприкосновения в многообразном духовном опыте Православия, Католичества и Протестантизма. В работе «Единый поток жизни» он пишет: «Есть одна основная стихия христианской жизни на Востоке и на Западе» и приводит в пример св.Франциска, который во время последней своей болезни отказывается слушать чтение Свящ. Писание и отвечает брату: «Мне больше не нужно, сын мой. Я знаю Христа бедного и распятого». Арсеньев пишет, что ему (Франциску) было достаточно постоянного устремления на Распятого. В этом вся мудрость Франциска, красной нитью проходящая через его жизнь от видения Христа в часовне Сан Дамиани до стигматиции на вернской горе. Далее исследователь приводит почти аналогичный ответ праведного старца Стефана в «Луге Духовном» пришедшим к нему для поучения: «Ни на что более не взираю, кроме Господа Нашего Иисуса Христа, пригвожденного к древу крестному».
Прошло уже более 800 лет со дня рождения великого христианского учителя и святого. Но он продолжает жить. Сегодня с 45—тысячами монахов и двумя миллионами терциариев францисканский Орден является самым значительным по численности в римско-католической Церкви. Св.Франциск — первый «западный» святой, которого полюбили русские верующие. Это значит, что шаг в сторону сближения христиан сделан. Ведь его жизнь призывает нас, верующих Западной и Восточной Церкви, к следованию за Евангелием, во имя Господа Нашего и Спасителя Иисуса Христа.
http://www.spbda.ru/theology/allcerkhist/avgustin1.php
2. Франциск Ассизский. Гимн брату Солнцу
Это поэтическое произведение св. Франциска, написанное на умбрийском наречии, представляет собой первое стихотворение на итальянском языке.
Гимн был написан св. Франциском незадолго до смерти, летом 1225 г. в хижине, построенной для него около церкви св. Дамиана, т.е. той церкви, где он впервые услышал голос Господа. Франциск был совершенно болен, так как, помимо общего истощения и незаживающих ран - стигматов, у него началось обострение хронического воспаления век - болезни, которой он заразился во время своей миссионерской поездки на Восток. Мучительная операция, которую его уговорили сделать, - прижигание каленым железом - не дала никаких результатов. И в этом состоянии, когда глаза его не могли без ужасной боли видеть солнечный свет, св. Франциск написал хвалебную песнь брату Солнцу.
В устах св. Франциска написанный им гимн был молитвой благодарности Богу за этот прекрасный мир, который Он создал для людей.
Гимн брату Солнцу
Всевышний, всемогущий, благой Господь, твои суть хвалы, слава, честь и всякое благословение.
Тебе единому, Всевышний, подобают, и никакой человек не достоин тебя называть.
Восхваляем Ты, мой Господи, со всем Твоим творением, начиная с господина брата солнца, который есть день и которым Ты освящаешь нас.
И сам он прекрасен и, излучая яркий свет, несет знак от тебя, Всевышний.
Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру луну и звезды, которые на небе Ты сотворил яркими, драгоценными и прекрасными.
Восхваляем ты, мой Господи, за брата ветра и за воздух, и облака, и ясность, и всякую погоду, через которую даешь Ты пропитание своим созданиям.
Восхваляем Ты, мой Господи, за сестру воду, которая полезна весьма и доступна и ценна и чиста.
Восхваляем Ты, мой Господи, за брата огня, которым Ты освещаешь ночь, который и сам прекрасен и приятен и мощен и силен.
Восхваляем Ты, мой Господи, за сестру нашу мать землю, которая нас поддерживает и направляет, и производит различные плоды с яркими цветами и травой.
Восхваляем Ты, мой Господи, за тех, которые оставили все ради любви к Тебе, и приняли на себе уничижение и мучение.
Блаженны те, кто примет это в мире, потому что Тобой, Всевышний, увенчаются.
Восхваляем ты, мой Господи, за сестру смерть телесную, которой никто из людей живущих не может избежать.
Горе тем, которые умирают в смертных грехах; блаженны те, кого настигнет она в исполнении Твоей святой воли, кому смерть, настигнув, не причинит зла.
Восхваляйте и благословляйте Господа моего, Благодарите и служите Ему с великим смирением.

3. CОЧИНЕНИЯ
НАСТАВЛЕНИЯ
Наставления или Увещевания, представляющие собой собрание сентенций св. Франциска, являются настоящей жемчужиной духовного опыта. Это действительно "зеркало совершенства" и образец для тех, кто почувствовал призвание к Христианской жизни в духе Св. Франциска. Слова его просты, но исполнены глубокой жизненной мудрости. Время составления "увещеваний" точно не установлено, предположительная датировка - 1216 - 1221 гг. Вероятно, это собрание появилось в результате объединения в одно целое кратких поучений святого, сказанных им по различным поводам, в том числе, и на капитулах Ордена, затем оно было отредактировано, а возможно, и дополнено цитатами из Священного Писания. Принадлежность "Увещеваний" св. Франциску не вызывает сомнений, они содержатся в древнейшей рукописи сочинений святого.
НАСТАВЛЕНИЯ (УВЕЩЕВАНИЯ)
Гл. I: О Теле Господа
Господь Иисус сказал Своим ученикам : "Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего". И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: "Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас". Иисус сказал ему: "Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня? Филипп, видевший Меня видел Отца (Ин. 14, 6 - 9) Моего". Отец обитает в свете неугасимом (ср. 1 Тим. 6, 16), и Бог есть Дух (Ин. 4, 24), и Бога не видел никто никогда (Ин. 1,18). Поэтому не может быть виден иначе как в Духе, что Дух животворит, плоть не пользует ни мало (Ин. 6, 64). Нои сына, в том чем он равен Отцу, никто не может увидеть иначе, чем как Отца или Святого Духа. Отчего все видевшие Господа Иисуса в унижении и не увидевшие и не уверовавшие в дух и в божественность, в то, что Он истинный Сын Божий, были осуждены. Так же и все видящие жертвоприношение в виде хлеба и вина, совершаемое на алтаре по слову Божьему рукой священника, и не видящие и не верящие в Дух и Божественность, в то, что поистине это есть святейшее Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, осуждены по свидетельству самого Всевышнего, Который говорит: "Сие есть Тело Мое и Кровь Моя Нового Завета, (за многих изливаемая)" (ср. Мк 14, 22.24); и: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную" (ср. Ин. 6, 55). И лишь Дух Божий, обитающий в верных Его, принимает священнейшее Тело и Кровь Господа. Все же прочие, не имеющие от этого Духа и предвкушающие принять Его, осуждение себе едят и пьют (ср. 1 Кор. 11, 29). Откуда: "Сыны человеческие, доколе жесткосердие" (ср. Пс. 4, 3). Неужели не знаете истины и не верите в Сына Божьего (ср. Ин. 9, 35)? Вот, Он ежедневно уничтожает себя (ср. Фил. 2, 7), подобно тому как от царственных престолов (Прем. 18, 15) пришел во чрево Девы; ежедневно приходит к нам, являясь уничижен; ежедневно нисходит с лона Отца (ср. Ин. 1, 18) на алтарь в руках священников. И как Святым апостолам предстал в истинной плоти, так и нам сейчас предстает в святом Хлебе. И как они телесным зрением видели только Его плоть, но верили, что Он Бог, взирая духовными очами, так и мы, видя хлеб и вино очами телесными, да увидим и твердо уверуем, что это есть Его священнейшее Тело и Кровь - живые и истинные. И так всегда пребывает Господь с верующими, как Сам Он говорит: "Я с вами до скончания века" (ср. Мф. 2228, 20).
Гл. II: О зле собственной воли
Господь сказал Адаму: "от всякого дерева ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него" (ср. Быт. 2, 16 - 17). От всякого дерева в раю он мог есть, потому что не грешил, пока не вышел из повиновения. Тот же, кто вкушает от дерева познания добра, приобретает собственную волю и отпадает от благ, о которых Господь говорил и сотворил ему, и для него по наущению диавола и нарушению заповеди плод становится плодом познания зла. И посему должно ему понести наказание.
Гл. III: О совершенном послушании
Говорит Господь в Евангелии: "Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником" (Лк 14, 33); и: "Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее" (Лк 9, 24). Тот человек оставляет все, что имеет, и теряет тело свое, кто всего себя послушно отдает в руки своего настоятеля. И что угодно может говорить и творить, лишь бы знал, что это не против его воли, и если творит благо, это и есть истинное послушание. И если подчиненный увидит лучшее и более полезное для своей души, чем то, что предписывает ему настоятель, пусть по своей воле воздаст Богу; то же, что велит настоятель, пусть стремится исполнить обязательно. Ибо это есть самое лучшее послушание (ср.1 Петр. 1, 22), потому что удовлетворяет Бога и ближнего. Если же настоятель предписывает что-либо против совести, можно ему и не повиноваться, но его не оставлять. И если из-за этого от кого-либо претерпит преследование, пусть больше его любит ради Бога. Ибо кто скорее претерпит преследование, чем захочет отделиться от своих братьев, поистине пребывает в совершенном послушании, потому что полагает душу свою за братьев своих (ср. Ин. 15, 13). Ибо есть много верующих, которые под видом того, что видят лучшее, чем то, что им предписывают настоятели, оглядываются назад и к блевотине своеволия возвращаются (ср. Притч. 26, 11; " Петр. 2, 22), они суть убийцы и своим дурным примером губят многие души.
Гл. IV: Чтобы никто не присваивал себе начальствования
"Я не для того пришел, чтобы Мне служили, но чтобы послужить" (ср. Мт. 20, 28), говорит Господь. Те, кто поставлен над другими, - пусть столько же гордятся этим начальствованием, сколько если бы были предназначены исполнять службу омовения ног братьев. И если более смущаются об отнятом у них начальствовании, нежели об утрате обязанности мыть другим ноги, тем более набивают себе денежных ящичков на погибель души (ср. Ин. 12, 6).
Гл. V: Пусть никто не гордится, но славится крестом Господним
Помысли, человече, как возвысил тебя Господь Бог, создав и устроив тело твое по образу возлюбленного Сына Своего и дух по Своему подобию (ср. Быт. 1, 26). И все создания, сущие под небом, согласно со своей природой, познают своего Творца, служат и повинуются Ему лучше, нежели ты. И даже бесы не сами распяли Его, но ты с ними распял Его и поныне распинаешь, погрязши в пороках и грехах. Чем, следовательно, можешь гордиться? Ибо если бы ты был настолько тонок и разумен, чтобы иметь знание обо всем (ср.1 Кор. 12, 28) и тонко рассматривать небесные дела, всем этим ты не можешь гордиться; потому что один бес знал о небесном и знает о земном больше, чем все люди, хотя бы и был кто-нибудь, получивший от Господа особое познание высшей мудрости. Подобным образом, если бы ты был прекраснее и богаче всех и даже если бы совершал чудеса - изгонял бесов, все это тебе не свойственно и ничто из этого не принадлежит тебе, и из этого ничем ты не можешь славиться; но при этом можем мы гордиться нашими немощами (ср. 2 Кор. 12, 5) и нести ежедневно святой крест Господа нашего Иисуса Христа (ср. Лк. 14, 27).
Гл. VI: О подражании Господу
Помыслим, братья, о добром пастыре, Который ради спасения Своих овец принял крестную муку. Овцы Господа последовали за Ним в мучении и гонении, страхе и голоде, немощи и искушении и во всем прочем другом; и за это получили от Господа жизнь вечную. Откуда великий стыд нам, рабам Божиим, что святые совершили подвиги, а мы, рассказывая о них, хотим получить славу и почет.
Гл. VII: Пусть за познанием следует благое деяние
Апостол говорит: "Буква убивает, а дух животворит" (2 Кор. 3, 6). Те мертвы от буквы, кто стремится познать одни лишь слова, чтобы среди других считаться весьма мудрыми и стяжать большое богатство для родственников и друзей. И те монахи мертвы от буквы, кто не хочет следовать духу буквы божественной, но хочет лучше узнать только слова и объяснять другим. И те животворимы духом буквы божественной, кто всякое знание, которое имеет или стремиться преобрести, относит не к телу, но воздает это слову и примеру всевышнего Господа Бога, Какового есть всякое благо.
Гл. VVIII: О том, что следует избегать греха зависти
Апостол говорит: "Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым" (1 кор. 12, 3) и: "Нет делающего добро, нет ни одного" (Рим. 3, 12). Следовательно, кто бы ни завидовал брату своему из-за добора, которое ему поведал или сотворил на нем Господь, впадает в грех богохульства, потому что ненавидит Самого Всевышнего (ср. Мф. 20, 15), Который говорит и творит все добро. Гл. IX: О любви
Говорит Господь: "Любите врагов ваших (благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас)" (Мф. 5, 144). Тот же поистине любит своего врага, кто не о причиняемой себе несправедливости скорбит, но в любви к Богу сокрушается о прегрешении его души. И произрастает из его страданий любовь.
Гл. X: Об умерщвлении плоти
Многие, когда сами грешат или претерпевают несправедливость, часто обвиняют врага или ближнего. Но это не так: потому что всякий в власти своей имеет врага, то есть тело, через которое грешит. Посему блажен тот раб (Мф. 24, 46), который этого врага, преданного в его власть, всегда держит пленным и мудро его остерегается; потому что пока он так поступает, никакой другой враг,. Видимый и невидимый, не сможет ему повредить.
Гл. XI: Пусть никто не соблазняется из-за зла, совершаемого другим
Рабу Божьему ничто не должно внушать отвращения, кроме греха. И если кто-либо совершит грех, а раб Божий смущается и гневается, но не из-за любви к согрешившему, то сам умножает себе вину (ср. Рим. 2, 5). Тот раб Божий, который не гневается и не смущается из-за чужого греха, живет без собственного. И блажен тот, кто не оставляет себе ничего, воздавая кесарево кесарю, а Божие Богу (Мф. 22, 12).
Гл. XII: О познании духа Божия
Так можно познать раба Божия, имеет ли он от духа Божия: когда Господь устраивает через него какое-либо добро, то плоть его из-за этого не возвышается, потому что она всегда противна всякому добру, но предстанет он в своих глазах более жалким и посчитает себя меньше всех остальных людей.
Гл. XIII: О терпении
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими (Мф. 5, 4). Не может познать раб Божий, сколь великое имеет терпение и самоуничижение, пока все покорны ему. Когда же придет время, и те, кто должен был ему подчиняться, сделают противное его воле, то сколько тогда он проявит терпения и самоуничижения, столько и имеет, и не больше.
Гл. XIV: О нищете духа
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5,3). Есть многие, кто, будучи на молитве или на службе, доставляет своему телу многочисленные воздержания и печали, но от единого слова о кажущейся несправедливости сего для собственного их тела, либо от какой-то другой вещи, которая у них отнимается, соблазненные, немедленно смущаются. Они не суть нищие духом; потому что кто поистине нищ духом, ненавидит самого себя и любит тех, кто ударяет его по щеке (ср. Мф 5, 39).
Гл. XV: О мире
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9). Те суть поистине миротворцы, кто во всем, что претерпевают в этом мире, из-за любви к Господу нашему Иисусу Христу сохраняют мир в душе и теле.
Гл. XVI: О чистоте сердца
Блаженны чистые сердцем, ибо они от Бога узрят (Мф. 5, 8). Воистину чисты сердцем те, кто отвергает земное, ищет небесного и непрестанно молится и видит Господа Бога живого и истинного чистым сердцем и душой.
Гл. XVII: О смиренном рабе Божием
Блажен тот раб (Мф. 24, 46), который не больше гордится от блага, которое Господь речет и творит через него, чем если речет и творит через другого. Грешит человек, предпочитающий получить более от ближнего своего, чем воздать от себя Господу Богу.
Гл. XVIII: О сострадании ближнему
Блажен человек, который в немощности своей поддерживает ближнего своего в том, в чем сам бы хотел, чтобы тот его поддержал, окажись он в подобном несчастье (ср. Гал 6, 2; Мф. ?, 12). Блажен раб, отдающий все добро Господу Богу, потому что, если кто что-нибудь удержал себе, скрыл у себя серебро Господа Бога своего (Мф. 25, 18), то что он думал иметь, отнимется у него (Лк. 8, 18).
Гл. XIX: О смиренном рабе Божием
Блажен раб, не мнящий себя лучшим, когда возвышаем и возвеличиваем людьми, чем когда он беден, прост и презрен, потому что каков человек перед Богом, таков он и есть, и не больше. Горе тому монаху, кто другими вознесен высоко и по своей воле не хочет сойти. И блажен тот раб (Мф. 24, 26), который не по своей воле возносится высоко и всегда хочет быть под ногами других.
Гл. XX: Об истинном монахе и мнимом
Блажен тот монах, который не находит приятности и радости ни в чем, кроме священнейших речей и деяний Господа и ими наставляет людей любить Бога с весельем и радостью (ср. Пс. 50, 10). Увы тому монаху, кто забавляется речами праздными и пустыми и ими приводит людей к смеху.
Гл. XXI: О суетном и болтливом монахе
Блажен раб, который, когда говорит, не выставляет все свое напоказ корысти ради и не поспешен в разговоре (ср. Притч. 29, 20), но мудро провидит, что следует говорить и отвечать. Увы тому монаху, который блага. Явленные ему Господом, не скрывает в сердце своем (ср. Лк. 2, 19.51) и другим являет не в милосердии, но стремится явить людям излишние слова корысти ради. Сам он получает награду свою (ср. Мф.6, 2.16), и слушатели извлекают мало пользы.
Гл. XXII: Об исправлении
Блажен раб, который поучение, обвинение и обличение от другого принимает так же кротко, как от себя самого. Блажен раб, который, порицаемый, благосклонно успокоится, почтительно уступит, смиренно покается и охотно повинуется. Блажен раб, который не скор в самооправдании и смиренно принимает осуждение и порицание в грехе, когда он неповинен.
Гл. XXIII: О смирении
Блажен раб, который так же смиренно находится среди своих подчиненных, как если бы он был среди своих господ. Блажен раб, всегда пребывающий под розгой исправления. Верный и благоразумный раб (ср. Мф. 24, 45), кто во всех своих проступках не замедлит принести покаяние: внутренне - через раскаяние, и внешне - через исповедь и воздаяние.
Гл. XXIV: Об истинной любви
Блажен раб, который столько же любит брата своего, когда тот немощен и не может ему помочь, сколько когда тот здоров, чтобы помочь ему.
Гл. XXV: Снова о том же
Блажен раб, который столько же любит и боится брата своего, когда тот далеко от него, сколько когда тот вместе с ним, и не говорит ничего в его отсутствие, чего не мог бы почтительно сказать при нем.
Гл. XXVI: Пусть рабы Божии почитают клириков ь
Блажен раб, доверяющий клирикам, живущим праведно согласно установлением Римской Церкви. И горе тем, кто их презирает; хотя бы и были они грешниками, ведь никто не должен их судить, потому что один лишь Господь предназначил их Себе на суд. Ибо насколько велико их служение, которое приемлют от святейшего Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, ведь они принимают и только они другим подают, настолько больше имеют греха те, кто грешит против них, чем против всех других людей этого мира.
Гл. XXVII: О добродетели, избегающей порока
Где любовь и мудрость, там нет ни страха, ни невежества. Где терпение и смирение, там нет ни гнева, ни смущения. Где бедность с радостью, там ни алчности, ни скупости. Где покой и размышление, там ни смятения, ни тревоги. Где страх Господа у охраняющего свой дом (ср. Лк. 11, 21), там враг не сможет найти места для нападения. Где милосердие и любовь, там ни избыточности, ни черствости.
Гл. XXVIII: О том, что добро нужно таить, чтобы оно не пропало
Блажен раб, собирающий на небесах (ср. Мф. 6, 20) сокровища, которые являет ему Господь, и не желающий показывать их людям ради корысти, потому что Всевышний сам откроет дела его, кому захочет. Блажен раб, хранящий тайны Господа в сердце твоем (ср.Лк 2, 19.51).
ОБ ИСТИННОЙ И СОВЕРШЕННОЙ РАДОСТИ
Этот рассказ "Об истинной и совершенной радости" представляет собой повествование брата Леонарда, приводящего слова св.Франциска, продиктованные брату Льву. Исходя из того, что это повествование - пересказ от третьего лица, его прежде не включали в собрания сочинений святого. Но в результате глубокого сравнительного анализа Эссер пришел к выводу, что его можно рассматривать как подлинное произведение св. Франциска, допуская при этом возможное определенное редактирование текста братьями, что, собственно, не является противопоказанием для включения рассказа в собрание, ибо, как уже отмечалось выше, почти все сочинения св. Франциска редактировались его секретарями. Время написания этого рассказа неизвестно. Текст сохранился в составе Флорентийского кодекса XIV в.
Он (брат Леонард) там же повествует, как однажды блаженный Франциск возле Святой Марии призвал брата Льва и сказал: "Брат Лев, пиши". Тот ответил: "Я готов". "Пиши", - сказал, - "что есть истинная радость. Прибывает вестник и говорит, что все профессора из Парижа вступили в Орден, пиши, это не истинная радость. То же самое, если все прелаты из-за Альп, архиепископы и епископы; то же самое, если король французский и король английский, пиши, это не истинная радость. То же самое, если бы братья мои пошли к неверным и обратили бы их всех в веру; то же самое, что Бог даровал мне милость исцелять больных и совершать много чудес: говорю тебе, что во всем этом нет истинной радости. Но какова же истинная радость? Я возвращаюсь из Перуджи и глубокой ночью прихожу сюда, и зима слякотная и до того холодная, что на рубашке намерзают сосульки и бьют по голеням, и ранят так, что выступает кровь. И весь в грязи и во льду, замерзший, я подхожу к дверям, и, после того как я долго стучал и кричал, подходит брат и спрашивает: "Кто там?" Я отвечаю: "Брат Франциск". А он отвечает: "Иди прочь, уже поздний час; не войдешь". И когда я продолжаю настаивать, отвечает: "Иди прочь, ты простак и неграмотен, не подходишь нам; нас так много и мы такие важные персоны, что мы не нуждаемся в тебе". А я все стою под дверью и говорю: "Из любви к Богу приютите меня этой ночью". А он ответит: "Не буду. Поди в обитель к крестоносцам и там попроси". Говорю тебе, что если сохраню терпение и не разгневаюсь, вот в этом и есть истинная радость, и истинная добродетель и спасение души".
Перевод выполнен В.Л. Задворным.
Францисканская литература
Францисканская литература из-за своей любви к природе, своего культа человеческой природы Христа и своих требований конкретности вызывает то обновление искусства, которое поразило ученых и привлекло переменчивое мирское внимание к францисканству.
Новый менталитет святого Франциска и его новое видение жизни нигде не открываются столь явно, как в искусстве; более того, если францисканское благочестие трудно описать особым определением, которое какой-либо своей частью не напоминало бы другую форму христианской жизни, искусство выделяет его из общего потока и выражает его обновляющую оригинальность, потому что живой идеал Христа, пробужденный святым Франциском в сознании людей, и конкретная любовь находят свое самое сильное отражение в искусстве, которое рождается из великого идеала и живет им, будучи в то же время очень конкретным.
Жизнь-поэма святого Франциска напрямую породила в 13 веке огромное число рассказов, переходящих из монастырей на площади, а с площадей к домашним очагам. Эти рассказы в свитках брата Льва и первых соратников святого Франциска стали биографиями, где сохраняется аромат леса и пещер; они отразились в двух Легендах Фомы Челанского, где появляется литературная размеренность, а также риторическая приукрашенность, но не теряется, вместе с тем, первоначальная непосредственность; в Житии святого Бонавентуры, которое столь же приобретает в органичности и глубине, сколь проигрывает в простоте; в Actus Beati Francisci, которые представляют Гонфалоньера Христова среди рыцарей его круглого стола.
Святость Франциска напрямую вдохновляет литургических поэтов, которые пишут к его канонизации рифмованную Службу, - Фому Капуанского, кардинала святого Сабины, Раньеро Каппоччо из Витербо, кардинала святой Марии в Космедине, и более всего - фра Джулиано из Спиры, хорошего минорита, капельмейстера короля Франции, который написал историческую - антифонную - часть Службы тщательно и сжато, воздав своему отцу славу, которую часто повторяют потом, потому что она попадает в самую точку: vir catholicus et totus apostolicus, а также Franciscus evangelicus.
Музыка еще более возвышенна, чем литературная часть; Джулиано из Спиры отдалятся от григорианской модели и использует все мелодические мотивы, совместимые с литургией.
Для той же Службы Григорий IX, большой друг и защитник святого Франциска, написал спокойный торжественный гимн, омываемый потоком оплакивания, который и составляет его прелесть, и другое произведение, в котором представляется святой Франциск - легат и знаменосец Христа, борющийся с древним драконом, бросая три своих войска против легионов демонов.
Если и не напрямую на святого Франциска, то совершенно точно на Житие Первое опирается ученая Стихотворная Легенда, которую написал гекзаметром Генрих д’Авранчес около 1232-1234 годов; она слишком классически изображает Беднячка, который борется с Эриниями (пороками) с помощью добродетели, сравнивая его с Цезарем и Александром Македонским.
Но не только жизнь Франциска, а все его благочестие, то есть его способ любить, - это источник духовного и художественного обновления. Развивая символический образ Госпожи Бедности, один из братьев, возможно, Иоанн Пармский, пишет Commercium dominae Paupertatis cum divo Francisco, который, может быть, вдохновил Данте и Джотто. Следуя за святым Франциском в Вифлеем, святой Бонавентура восстанавливает в своем воображении то, что святой восстановил фактически в Греччо, и пишет De quinque festivitatibus pueri Jesu, в которых проникает в подробности зачатия и раннего детства Искупителя с отеческой интуицией, представляет их вдохновенно, как художник, соотносит с внутренней жизнью глубоко, как духовный учитель; следуя за святым Франциском на Голгофу, он восстанавливает то, что святой пережил на Верне, и пишет Lignum vitae и Vitis mystica, - пластическое, впечатляющее описание Страстей Христовых, оправленное в аллегорию, одновременно древнюю и новую, которая не уменьшает его красоту, потому что она легка, как филигрань; это аллегория креста, древа спасения и инструмента мучения, аллегория виноградной лозы, привитой, подвязанной, обрезанной, с ее усиками, побегами, цветами, гроздьями, которые будут выжаты ради вина цвета крови; древние аллегории, приобретающие символизм двенадцати веков христианства, но выраженные просто и натуралистично во францисканском натурализме, чистом и умеренном. Древо жизни с его двенадцатью плодами будет эмблемой святого Бонавентуры, объектом размышления для Убертино Казальского и других, сюжетом фресок в трапезных и внутренних двориках монастырей, стимулом к размышлению и любви для тысяч душ. Святой Бонавентура вновь вернется к изображению Страстей Христовых с поэтическим духом и формой в тридцати девяти семистрочных строфах Laudismus de Sancta Cruce, жалобе продолжительной, непрерывной боли; в тридцати двух строфах Meditatio de Passione Jesu Christi, в семи словах об Иисусе на Кресте. Его поэзия - это созерцание Распятого в конкретной явности пробитой головы, рваных ран, струящейся крови, это трепетное соучастие в божественном мученичестве.
Corpus ange, corde plange,
Mentem frange, manu tange
Christi mortis saevitias.
Это разговор с самим собой у подножия Креста, чтобы почувствовать боль:
Plange fidelis anima
Amica crucis intima.
Короткая поэма «Филомена» (которую два сборника приписывают Иоанну Пеккаму, но которая выражает концепцию святого Бонавентуры о восхождении Бога согласно Itinerarium, его способ рассматривать жизнь Христа и мистический смысл смерти) берет начало - в том, что касается структуры, - от древних Orologi della Passione, но в совершенно другом выражении. В ней рассказывается легенда, что соловей, когда он чувствует приближение смерти, поднимается на верхушку дерева на заре солнца и поет. Чем выше поднимается солнце над горизонтом, тем громче его песня, и все его тело вибрирует, как струна, пока, на исполнении самой высшей ноты, уже при свете солнца, не рвутся его вены, не лопается его горло, и соловей умирает от любви. Францисканский поэт улавливает красоту легенды о страсти, но, будучи мистиком, одушевляет ее в символе. Соловей - это вестник души Возлюбленного, потому что душа тоже воспевает разворачивающуюся жизнь Христа от детства до распятия и испытывает с Ним смертные муки. Неподражаемо нежны часы воспевания Младенца Иисуса. Семейная литература не создала более трогательных стихов, чем те, в которых суровый «Доктор Меньших братьев», будущий кардинал, стремится целовать ножки, готовить ванночку, стирать пеленки бедного божественного Младенца. Песнь достигает наивысшего восторга в последний час: крайний предел любви - смерть. Даже если «Филомена» принадлежала бы Иоанну Пеккаму, такая идея явно принадлежит святому Бонавентуре. И если Corona B.Mariae Virginis написана не им, она достойна его, мечтающего об актуальной и вечной поэтичности Angelus.
Ave, regina coelorum
Ave, Domina Angelorum.
Францисканство и новая поэзия
У святого Франциска были, возможно, свои трагические часы: неуверенность в прощении, мучение искушений, бессонные ночи в заброшенных церквах, борьба с бесом на краю обрыва. Это и апокалиптические страхи, пересекавшие позднее Средневековье и обновленные к концу 12 века еретическими течениями, а также насилие тринадцатого века, который был, в самом деле, веком Эвзелина, «сына дьявола», и кровавых распрей «между теми, кого запирают стена и могила», что чувствовали и воплощали все, в том числе поэты-францисканцы, так что до открытия Кодекса Караманико, которое совершил отец Ингуаньес в сентябре 1931 года, никто не сомневался, что мрачное однорифменное Dies irae написано Фомой Челанским, как авторитетно утверждал Эрмини.
Несколько апокалиптических нот звучит в стихах Якопоне да Тоди, поэта, очень сильного в противопоставлении ужасного и блаженного, правдоподобного и идеального. Диалоги между душой и телом, живым и мертвым, бичевание плоти вплоть до мольбы о болезни, отрицание человеческой природы вплоть до желания слабоумия, резкие сатиры, поражающие жестоким правдоподобием, все гротескное и мрачное, что накопило Средневековье, и вместе с тем внимательнейший анализ любви и ее мук, интимные и возвышенные сцены материнства, в которых, кажется, тает душа, райские танцы, лазурные «хоры радости» над адской бездной, - все это воспевает поэзия Якопоне да Тоди, следуя его сверхъестественной концепции жизни (настолько сверхъестественной, что некоторым читателям она может показаться более впечатляющей (говоря о религиозной стороне), чем поэзия самого Данте). Он не достигает того высочайшего примирения божественного и человеческого, которое является великим даром святого Франциска; он борется, сообщает свое страдание всему, что изображает; для него Пресвятая Мария, божественная молчальница Евангелия, которая «недвижимая» видит «Сына умирающим на Кресте», становится бедной мамой, которая корчится от боли; но насколько он францисканец в этом конкретном изображении страдания! И не только страдания, но и любого человеческого чувства. Якопоне - это поэт, написавший «Райскую женщину» и «Stabat Mater», которые вновь с трепетом напоминают трагедию Голгофы рассеянным христианам, но это также и поэт славного материнства Марии, поэт, более страстный, чем все другие:
«Мы видим Ребенка,
Который шевелит ножками в сене,
И голые ручки
Протягивает к ее лону,
А она укрывает Его
Так хорошо, как только может,
Вкладывая свою грудь
Ему в ротик».
Такой образ, который у Якопоне становится художественной фантазией, был, однако, обычной формой мысленной молитвы у францисканцев; он сделал из него рифмованное стихотворение, а другие (например, святой Бонавентура в его «Пяти праздниках Младенца Иисуса») сделали из него созерцательные трактаты, как знаменитый Meditationes vitae Christi, где строки Евангелия открывают свою внутреннюю реальность; пейзаж становится народным, персонажи двигаются, рассказы становятся действием, и страницы о Страстях под францисканским плачем становятся красными, будто сухие губки, пропитанные запекшейся кровью, которые, если их омыть горячими слезами, снова источают кровь.
Между тем, начиная от Песни брата Солнца, минориты, в непосредственном контакте с народом продолжают изменять латинское стихотворное построение в народное прославление, которое по языку и мелодии лучше отвечает новой духовности. Священная песнь часто берет ноты любовной; прославление становится сестрой баллады, но это изменение не всегда профанация, более того, оно происходит параллельно с другой, более глубокой, трансформацией, которая происходит в концепции женщины и любви, что порождает такой важнейший литературный факт, как «новый сладостный стиль». От канцоны Гвинизелли «Al cor gentil ripara sempre amore» до последнего сонета «Новой жизни» Данте, «Oltre la spera che piu’ tarda gira», «новый сладостный стиль» в своей рациональной и мистической основе зиждется на святом Бонавентуре, за исключением Гвидо Кавальканти, который отклоняется к Avampace. Творение-ступенька к Творцу, красота-выражение вечного Блага, ангельская женщина, которая уже влечет не к погибели, а к спасению, постепенное возвышение любви чувственной до любви мысленной, а потом - до любви духовнейшей и сверхъестественной, которое Данте явно намечает в «Новой жизни», этом объединении экстатического идеала с его женщиной в Боге, к Которому он приходит через отречение и смерть, - все это Itinerarium, пережитый уже не молчаливым послушником на церковном дворике, а гордым и вещим поэтом в смятении юных лет, в центре графской Флоренции, богатой и могущественной.
Первая великая поэзия о любви человеческой и вместе с тем христианской, утвердившаяся в мире после Евангелия, - итальянская и францисканская. Итальянцы никогда не смогут в должной мере отблагодарить своего Беднячка. Более того, из лирического прославления развиваются повествовательная и диалогическая Славы, которые дают начало священной драме и позже - священному представлению. Четверо ассизских гимнописцев, долгое время неизвестных ученым и открытых в 1933 году Арнальдо Фортини, подтверждают полностью францисканское происхождение драматического прославления, а следовательно, и средневекового итальянского театра.
Среди поэтических произведений обязательно стоит упомянуть наивную и нескладную De Jerusalem coeleste et Babilonia infernale брата Джакомо Веронского, над которой, возможно, улыбался и размышлял Данте; не производит плохого впечатления и «Хроника» брата Салимбене Пармского, которая на обновленном латинском отражает людей и предметы тринадцатого века, без плана и пропорции, но в соответствии с динамичным изменением жизни. Понтифики, кардиналы, братья, императоры, рыцари, еретики и святые, незначительные ежедневные происшествия и громкие события, сплетни и важные факты представлены с живой теплотой рассказчика, который видел и получал удовольствие от видения и действия, а сейчас получает удовольствие, рассказывая об этом; человека здорового и довольного жизнью, даже когда дела идут отчаянно плохо. Эта жизнерадостность и почти любопытство к жизни, которые побеждают иоахимистское воспитание автора, это погружение в поток истории с добротой, которую не пугают глупость и недостатки людей, это разностороннее и горячее видение реальности откровенно францисканские и предлагают историографии чрезвычайно интересную и привлекательную работу.
Францисканство и искусство
Новая духовность влияет не только на литературу, но и на все другие искусства. Римская церковь становится изящной, принимает форму креста или буквы «тау» и от вдохновения брата Илии становится несравненной тройной базиликой Ассизи, которая на старом холме Инферно прославляет - поэма в камне! - жизнь святого Франциска, а под влиянием Арнольфо она становится во Флоренции чистейшим святым крестом. Апокалиптические символы, неуклюжие животные, чудовища, черти, которые «украшали» храм, уступают место простому рисунку, который, особенно после нарбонских постановлений, стремится к бедности и подготавливает гладкую стену для фресковой росписи. В самом деле, фреска бедна по сравнению с мраморными барельефами и сияющими мозаиками, но в бедности расцветает ее красота; и вот уже нет строгих византийских Мадонн на золотом фоне, нет древовидных тронов святых, а есть триумф Христа-Судьи с распахнутыми глазами, с огромными руками и ногами. Как в песне странников Божьих, в молитвах миноритов, в рассказах францисканских легенд, в чтении meditationes, во всех других искусствах ад отдаляется, рай приближается и очеловечивается, Распятый стоит выше Судьи и Триумфатора в новом выражении прощения, Аннунциата опускается на колени, пораженная таинством Воплощения, божественная Мать спускается с украшенного драгоценными камнями трона, склоняется над улыбающимся Младенцем или сидит «в смирении» на соломенном матрасе, кормя молоком «Дитя», Которое не хочет «похлебки», и святые и любимые «великие любящие» францисканцев (святой Иоанн Евангелист, святой Иоанн Креститель, святая Мария Магдалина, святой Петр, святой Павел) приходят разговаривать с Девой. Еще несколько лет, - и «хоры радости» великих любящих, описанные Якопоне, оживят стены и престолы. Гармония мыслей и тайна чувств проходят между небом и землей, после того, как Глашатай Великого Царя назвал смерть сестрой. Искусство открывает это чудо всем, даже неграмотным.
Золотой век
К концу двенадцатого века францисканство уже утвердилось как столь полная, цельная и сознательная духовная сила, что оно могло действовать во всех социальных слоях и во всех направлениях, на площадях и в университетах, в скитах и при дворах, среди европейских собраний и азиатских орд. Такова его сила - в любви, конкретной, деятельной, которая сообщает мысли волюнтаристское и мистическое стремление, имеющее важнейшие последствия для деятельности, для искусства, одним словом, для цивилизации.
Францисканская деятельность, которая реализуется в апостольстве Евангелия и молитвы, из-за своего характера конкретности и любви почти сразу вызывает два эффекта: один универсальный, а другой - частный. Универсальный - это распространение более «сыновней», интимной и доверительной религиозности, которая ослабляет распри плоти и духа и почти примиряет божественное и человеческое; частный - это импульс развития индивидуальности у отдельных личностей и народов. Именно францисканство, предписывающее уже от своего создателя молитву благодарности, прославления и самое глубокое презрение к себе, именно францисканство, сделавшееся с помощью Скота учителем энергии, зажигает в человеке 13 века ту силу, которая делает человека человеком, - волю. С волей она выделяет призвание и формирует характеры. Это явно отражается в великих личностях Ордена, которые, имея один и тот же дух и один и ту же цель, сохраняют характерные черты своего «я» и своего народа. Пылкость и индивидуальность святого Бонавентуры, которые уравновешиваются в мудрости правления, преимущественно итальянские, так же как волюнтаристское направление Скота и научно-практическая тенденция Бэкона - в общем англосаксонские характеристики; а глубокие прозрения Раймунда Луллия, следующие за делами, отличают, как правило, испанцев. У народов францисканство тоже благоприятствует развитию областных и национальных (если они есть) черт, говоря на их языке, исполняя их мелодии, упорядочивая и освящая их труд, изучая их обычаи, обращаясь к их идеалам и привязанностям, чтобы направить их к Богу. Песнь брата Солнца является истоком итальянского языка, так же как Сantics d’amor entre l’Amic y l’Amat Луллия - истоком каталанского. Веревочный пояс францисканства связывает две кажущиеся противоположными характеристики: гражданин своей страны и католик. Это другое важное для истории дело примирения, которое совершило францисканство; оно означает разделение народов внутри римского единства, то есть в царстве Христа. От спиритуалов, непобедимых в бедности, до великих мыслителей, от проповедников, которые тянут за собой массы, до миссионеров, которые пересекают континенты, двенадцатый век для францисканства - век гигантов, который формирует для Ордена надежнейшее основание и выражает его дух в жизни Церкви, в литургии, в миру.
Все, что прославит Возрождение: культ красоты, изучение природы, силу воли, великодушие характеров, радость жизни, - в двенадцатом веке принадлежит францисканству, и пока оно остается францисканским, оно христианское, католическое, святое. Позже этот факел, пройдя через невежественные руки, изменит свет и сменит название. Но зародыши современной жизни и нашей волюнтаристской цивилизации - уже во францисканстве двенадцатого века; более того, они - в том маленьком итальянском святом, который как никто в мире углубился в чувство своей ничтожности перед величием и всемогуществом Бога, ставшего Человеком.

Францисканское благочестие и искусство
Но тот, кто хочет знать, как действовал францисканский дух вне церковного двора и монастыря, в общественной жизни четырнадцатого века, должен подумать о Данте и Джотто, о Варфоломее и Бальдо.
Джотто рассказал о жизни святого Франциска, может быть, без религиозной целостности, и слишком правдоподобно, но его способ представлять Франциска в конкретности места и времени - это, с одной стороны, следствие нового способа видеть реальность, который распространяло францисканство, а с другой - причина большего обращения к Беднячку и его жизни. Джотто представил святого Франциска человеком своего времени, и люди почувствовали, как он прост и близок к ним, и могли идти к нему со своими мечтами и горестями, смиренному и великому, каким он был на самом деле, несмотря на это его духовное величие. Под влиянием францисканства искусство в лице Джотто возвращалось к изучению жизни и вместе с тем приближало святость к жизни, показывая ее очевидные, достижимые, привлекательные примеры.
Что касается Данте, конечно, нельзя утверждать, что у неизящного изгнанника был ангельский характер, но ангельским был молодой поэт «Новой жизни», и он вернулся к францисканству после длительного заблуждения и страданий, как поэт Рая, особенно в концепции царственного торжества Христа и в высшем видении божественности, к которой, как научил его святой Бонавентура, нельзя подняться в теологии, но только в мистике. По своему идейному построению «Божественная комедия» ориентируется на Фому Аквинского, но райские песни о любви и горении - францисканские. Данте - францисканец не столько в работе и характере, сколько в концепции жизни.
Как святой Франциск, он примирял соперников, разрешая в своих мирских занятиях противоречие между временем и вечностью, между человеческим и божественным. На вечный вопрос: «Нужно ли дорожить преходящей, случайной реальностью?» Данте по-францискански отвечает «да», понимая чисто человеческую добродетель справедливости как необходимую для земного счастья и (когда она выходит за пределы человеческого от действия Благодати) для счастья небесного; и «да» он отвечает, рассматривая античную цивилизацию как подготовку к приходу христианства, а великих людей классической античности как великих духов, хотя и исключенных из вечного блаженства, но достойных уважения, потому что они в своей человечности видели знаки Создателя особенно ясно. На вопрос: «Есть ли способ примирить аскезу, которая является логическим следствием трансценденции, с активным действием, которое может быть предпосылкой имманентности?» Данте по-францискански отвечает «Да, есть», и этот способ - отказ от наслаждения и обладания благами, оставаясь вместе с тем в деятельности и в борьбе. В этом заключен смысл «Новых рифм», из которого следует любовь, выстраивающая по порядку небеса; это - главное значение «Божественной комедии». Отказаться от всего для Данте, как и для святого Франциска, не означает прекратить любить и прекратить страдать, но научиться владеть самим собой сверх страдания, собрав все силы. И, поскольку искренний отказ несет не только владение собой, но и идеальное обладание любимой вещью, Беатриче начинает становиться дантовским творением, когда мужчина отказывается от девушки Портинари; Флоренция принадлежала Данте, так как ожила в «Божественной комедии», когда поэт отказался вернуться в этот город, когда, после последних напрасных попыток возвращения на родину, он укрепил сердце в смирении, не позволяя надежде волновать себя, и нашел свое главное убежище и приют не столько у любезного великого ломбардца, сколько в себе самом, полностью обратившись к истине, справедливости, вечной родине. Это философское понимание жизни, которое нашло выражение в искусстве нашего великого поэта, проистекает прежде всего из Евангелия, но также и из Песни брата Солнца (Данте прочувствовал ее, когда, будучи юношей-терциарием, посещал миноритов в церкви Святого Креста); а потом, опираясь на этот прославляющий гимн и Itinerarium святого Бонавентуры, Данте углубил учение восхождения к Богу, отказавшись от всего, но ничего не презирая, когда на закате жизни он успокаивал свою усталость изгнанника во францисканской церкви Равенны, где идеал бедности смягчал ему горечь чужого хлеба, а мистика получившего стигматы вела его через учение Бонавентуры от чувственной реальности к реальности интеллектуальной, к сверхчувственному, по ступеням очищения, озарения, единения, до «Любви, что движет Солнце и светила». Тот факт, что Данте считал святого Франциска самым близким к божественному образцу, Иисусу Христу, подтверждается тем, что в своем Раю он ставит его выше докторов и основателей других религиозных орденов, которые по времени предшествовали ему, - таких, как святой Августин и святой Бенедикт, выше него он ставит только Иоанна Крестителя, которого Иисус определяет как «большего из рожденных женами». В иерархии дантовского Рая Беднячок, удостоившийся носить на своем теле язвы Иисуса Христа, - первый среди святых после Предтечи.
Петрарка не достиг или достигал лишь ненадолго завоеваний Данте; он не описывал определенно свои чувства в той высшей безмятежности эмпиреев; в своей жизни, разрывающейся между земными благами, от которых он не мог отказаться, и идеалом, которого он не мог достичь, он был менее францисканцем, чем Данте. Но он приближается к Франциску по другому пути. Характер поэта, неспособного принять сухую философию того времени, прибегает к святому Августину; по его откровенно августинской позиции, идущей вразрез с главенствующей тогда мыслью, по его любви к природе и красоте, которую, однако, не удовлетворяла ни красота, ни природа, и прежде всего по таинству Искупления, постоянно присутствующему в его душе и придающему чувство царского достоинства Христа в сознании и в истории, он относился к францисканской линии, и прославил святого Франциска в двух главах своей книги «De vita solitaria»; может быть, поэтому Беноццо Гоццоли изобразил его рядом с Данте и Джотто среди двадцати выдающихся личностей, окаймляющих историю святого Франциска, рассказанную на фресках в абсиде церкви святого Франциска в Монтефалько.
Францисканская духовность и гуманизм
Как во всех поворотах истории, в этом, который называется гуманизм, францисканская духовность следует одной решительной линии, исходящей от начальной позиции.
Гуманисты вновь берут платоновскую традицию и стремятся к волюнтаризму, восхищаясь человеческим достоинством; поэтому с одним из своих пионеров, Колуччо Салютати, призывают авторитет францисканских мыслителей для утверждения примата воли, и на него опираются, защищая классические исследования от моралистов, которые боятся и осуждают их. Францисканские теории о любви, о воле, о красоте отвечают, следовательно, гуманистическим тенденциям более исчерпывающе, чем другие течения схоластики, но не поэтому францисканцы одобряют гуманизм. Они смотрят на него с той симпатией, которая есть их способ принимать реальность, но отвергают в нем влюбленность в язычество, вплоть до того, что вовлекаются, как это произошло с Антонием из Ро, в ожесточенную полемику с Панормита, Валла, Браччолини.
Верные святому Франциску, который в разгар Средневековья по-христиански переоценивает природу и жизнь, францисканцы пятнадцатого века используют здоровую энергию древних текстов и изучают их с необычным подходом, ища в них отражение божественной мудрости. Иоанн из Серравалле, меньший брат и верховный епископ Фермо, который во время Совета в городе Констанца, то есть за четыре года, завершает титанический труд по переводу на латинский язык и комментированию «Божественной комедии»; Альберт Сартеанский, который оставляет школу Гварино ради обсервации; святой Бернардино Сиенский, слушатель Гварино, друг Барбаро, Веджо, Манетти; святой Иоанн Капестранский, великий двигатель знания внутри и за пределами Ордена, намечают для учеников и ученых магистраль культуры, когда рекомендуют не отделять святые писания от светских, языческих классиков от классиков христианских, науку от милосердия. Umanitas, которая, отражаясь в классиках, приобретает самосознание, не пугает францисканцев. Они знают, что пришедшее от Бога должно вернуться к Богу средствами, которые открывает мысль и объясняет история, но знают также, что перед новой деятельной и эстетической концепцией жизни нужно более чем когда-либо пробуждать мысль о вечности и sensus Christi.
В то время как торговцы и кондотьеры выстраивают новое общество, гуманисты начинают возрождение богов и веры в науку, а художники возвышают культ красоты; прежде чем печать, которая была в то время еще в колыбели, отнимет у живого слова его главенство, францисканцы-проповедники покаяния вновь пробуждают необходимость морали. Я говорю «проповедники», потому что в пятнадцатом веке францисканская мысль находит свое самое богатое и деятельное выражение в красноречии. В этом веке нет ни великих философов, ни великих писателей в узком смысле этого слова, но есть ораторы, которые - воплощая в жизнь то, чему они учат, - распространяют францисканскую концепцию жизни в народных массах, и искусство подтверждает результаты их труда. Первым по времени и по значимости был святой Бернардино Сиенский.
Францисканское искусство в 15-м веке
Искусство, пробужденное францисканской духовностью в тринадцатом веке, порождает в пятнадцатом веке работы, несравненные по размерам, ясности линий и тонов, так же, как обсервация вносит в контрасты века высокое примиряющее слово. Нет недостатка в столкновениях с возрождающимся язычеством; но если некоторые гуманисты осыпают братьев бранью, если после проповедей горят на площадях костры суетности, то с другой стороны святой Бернардино Сиенский советует изучать Цицерона наряду со святым Джироламо и, беря идею святого Бонавентуры, любит красоту и ищет ее в бедности; поэтому монастыри обсервации возникают в самых живописных местах, и их линии просты, но изысканны; поэтому, вдохновленные францисканскими легендами, для францисканских церквей и монастырей работают Алюнно и Гоццоли, Гирландайо и Лука делла Роббья, Донателло и Бенедикт Майано, Леон Баттиста Альберти и Августин Дуччо; Meditationes vitae Christi, приписываемые святому Бонавентуре, продолжают предлагать драматичные и трогательные мотивы поэтам гимнов и священных представлений; эпизоды из «Цветочков» оживают в произведениях Антонии Пульчи, золовки поэта Морганте.
Святой Бернардино Сиенский еще не умер, а искусство уже занималось им. Его фигура аскета, хрупкая, с голубыми глазами под очень высоким лбом, точеным подбородком под впалым ртом привлекала художников; его человечность заставляла любить его и представлять проповедующим на площади, среди толпы мужчин и женщин, или с табличкой с именем Иисуса у подножия креста, или рядом с Девой на троне, или в священной беседе со святыми, которых он любил и больше всего цитировал, или торжествующим среди летящих ангелов, одетых и ведущих себя с эллинской элегантностью. Искусство почувствовало и воплотило в нем дух обсервации и всего блага, которое обсервация совершила в то время, порождая молитвой, бедностью, животворным словом чудесные дела социальной помощи, сталкиваясь и занимаясь самыми мучительными вопросами того века: объединение с восточной Церковью, обращение и наказание язычников, борьба против турок и евреев, реформа обычаев и законов.
Но, может быть, самый великий дар, который сделала обсервация в пятнадцатом веке, была христианская линия любви и простоты среди господствующего индивидуализма и подражающего язычеству эстетизма гуманизма. Только францисканская церковь под своим бедным сводом с нагими стропилами и аркадами, могла принять фантазию влюбленного в красоту классика, каким был Леон Баттиста Альберти, мечту завоевателя пятнадцатого века о любви и славе, ставшую памятником искусства.
Джотто и францисканство
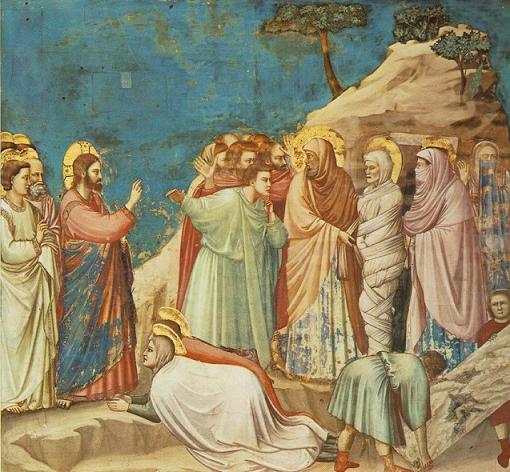
Часть 1. О реформаторстве Джотто в искусстве
Часть 2. Жизненный путь Джотто
Часть 3. «Францисканские» росписи Джотто
Часть 4. Изображение Джотто событий из жизни Марии и Христа в Капелле дель Арена
Часть 5. Художественные «открытия» Джотто
Список используемой литературы
Часть 1. О реформаторстве Джотто в искусстве
Джотто, сохраняя традиции готического искусства, впервые в истории итальянской живописи вынес точку зрения за пределы картины, создав, таким образом, независимое от зрителя живописное пространство, чем немало удивил своих современников. П. Флоренский назвал «джоттизм» своеобразной ересью, «францисканством» в искусстве на фоне символизма традиционной религиозной живописи. «Джотто смотрит в иную сторону… Его веселый и счастливый гений был склонен к по-возрожденчески неглубокому взгляду на жизнь». Он не был мистиком и в отличие от (по некоторым сведениям его друга) Данте, «дышал иным воздухом». Джотто испытал самый первый, предутренний ветерок натурализма и сделался его провозвестником» .
Несмотря на то, что исследования последних лет все больше раскрывают подробности жизни и творчества художника, с его именем и поныне связан миф о рождении современного искусства. Искусство Джотто - источник живой воды . В применении к искусству эпохи Джотто выражение «современное» имеет значение «индивидуальное» и «рациональное»; оно означает, что этот человек почти совершенно независимо от других, один, перестроил отношения между художником и обществом, между взглядами общества и художественными произведениями. Поэтому значение Джотто несравненно больше, чем тот факт, что он был художником. Он единственный, кого в изобразительном искусстве Проторенессанса можно поставить рядом с Данте, его современником. Новое ощущение человеческого достоинства выразилось во фресках Джотто едва ли не с такой же силой, как в «Божественной комедии» .
Как известно, уже в предшествующем Джотто поколении нередки были случаи, когда художники покидали ремесленные цехи, членами которых они являлись, и приобретали иное сословное положение в качестве организаторов и хозяев художественных мастерских, обеспечивая себе, таким образом, необычную для тех времен независимость. Однако Джотто своею деятельностью значительно поднял авторитет всех, занимавшихся изобразительным искусством, но игравших раньше в обществе третьестепенную роль ремесленников, благодаря чему ослабла консервативная скованность искусства, характерная для того времени.
После Джотто художником мог считаться лишь тот, кто превращал свои произведения в выражение своего художественного представления о мире, а не подражал стилю предшественников, не следовал традиционным канонам. Джотто становится самостоятельным и свободным истолкователем исполняемых им сюжетов, прежде всего религиозного толка, испытывая их ценность на пробном камне действительности, интерпретируя их в соответствии с объективным миром. То, что выдерживало его критическую оценку, Джотто развивал и воплощал в осязаемую реальность при помощи своего стиля, основанного на изучении природы. С Джотто прекращается двойственность, которая до него господствовала в христианском искусстве. Нет больше отдельного ирреального мира искусства, основанного на вере в божество и откровения, как и противостоящей ему обыденной действительности, рассматриваемой как временное местопребывание человека на земле, в долине испытаний, скорби и слез. Для Джотто формой проявления Бога и веры является сама действительность.
Крупнейший биограф художников Ренессанса, Вазари, считает Джотто но происхождению крестьянином, который в детстве был пастушонком. Вазари несомненно имел в своем распоряжении данные о жизни великого художника, но все же создал миф о Джотто-крестьянине потому, что лишь таким образом он мог объяснить неоспоримую силу, которую как раньше, так и теперь излучают его произведения. Однако, когда историки искусства в прошлом столетии обратили свое внимание на Джотто, то первые же исследования показали несостоятельность соображений Вазари и творчеству Джотто пришлось искать новое объяснение.
Тогда на основании работ немецкого искусствоведа Тоде сложился францисканский вариант мифа о Джотто . Согласно Тоде, искусство Джотто тесно связано с философией Франциска Ассизского, с его взглядами на природу и теорией внутреннего созерцания, то есть душевного состояния, создающего непосредственный контакт между отдельной личностью и богом, между человеком и природой. Несомненно, что предположение Тоде ближе к истине, чем мнение Вазари. Но и его нельзя считать ни исчерпывающим, ни совершенно правильным. Многие из современных искусствоведов в противоположность Тоде не видят в поэзии св. Франциска мотивов, созвучных нашей эпохе, а в известном «Гимне солнцу» великого «апостола нищеты» усматривают лишь модернизацию традиционной религиозной поэзии, навеянную лирикой трубадуров Южной Франции. Исследования доказали также, что, в противоположность своему великому современнику Данте, Джотто не был последователем Франциска Ассизского, хотя, как известно, им и было создано несколько циклов фресок из жизни «поверелло» (бедняка). Было найдено стихотворение Джотто, в котором он высказывается против бедности. Это стихотворение, еще средневековое по интонации, выражает более позднее мировоззрение с его сомнениями и иронией.
Творчеству Джотто вновь стали искать объяснение и тогда возникла теория готического влияния, согласно которой Джотто - величайший художник готики, изображающий в своих фресках тот синтез и те этические проблемы, в первую очередь борьбу за душу - «психомахию», которые являются главными темами готического изобразительного искусства. Несомненно, что можно привести аргументы в пользу и этой гипотезы. Но, подобно предыдущей гипотезе, она все же оказалась неубедительной. Готические соборы с их, по существу, абстрактной структурой строились с целью воплотить на земле трансцендентальное бытие ; выразить идею Бога таким образом, чтобы в этом великом синтезе оставалось место и для реальности и до некоторой степени даже для личности. Но изобразительные элементы - статуи и барельефы - в готических ансамблях не живут самостоятельной жизнью, удлиненные, стремящиеся вверх фигуры лишь заполняют движением геометрическую структуру и одушевляют ее; повествовательные барельефы схематичны и носят характер летописи, а не индивидуальной драмы. Что же касается оконных витражей, то, несмотря на всю их красоту, в мире абстракции, царящем в готических соборах, они играют преимущественно декоративную роль.
В этой теории рациональным оказалось только предположение, что с готикой Джотто познакомился «из вторых рук», через своих предшественников Никколо и, главным образом, Джованни Пизано, которые использовали в своих скульптурах достижения французского готического искусства и развивали их в итальянской интерпретации. Но даже в тех композициях, где страстная взволнованность или нагроможденность явственно напоминают готику, эта итальянская интерпретация по сути носит характер классицизма. Таким образом еще раз появилась необходимость создать новую теорию, объясняющую творчество Джотто.
Несомненно, что упомянутые выше влияния коснулись его, но решающую роль в его творчестве сыграла римская живопись и, прежде всего, Каваллини, многие произведения которого по стилю и по манере изображения человека стоят весьма близко к живописи Джотто. Для обоснования этой теории естественно предположить, что в юные годы Джотто провел некоторое время в Риме. Однако, если это справедливо, то ставится под сомнение его авторство в исполнении ассизских фресок или же эта, главнейшая работа мастера, должна быть отнесена к более позднему периоду.
Вследствие этой гипотезы число ранее предполагавшихся подлинников резко сократилось. Искусствоведы до сих пор расходятся во мнениях - принадлежат ли росписи церкви в Ассизи, посвященные житию Франциска Ассизского, самому Джотто или художникам его круга? Во всяком случае, эти росписи близки Джотто по стилю и духу, но уступают в художественном совершенстве его бесспорным произведениям: фрескам в падуанской Капелле дель Арена и в церкви Сайта Кроче во Флоренции. Первые представляют цикл евангельских сказаний о жизни Христа, вторые также посвящены Франциску.
Поэтому вскоре явилась необходимость предположить, что в Риме побывал не Джотто, а его учитель Чимабуэ. Чимабуэ, якобы, познакомил Джотто с достижениями римского классицизма, причем ученик оказался настолько восприимчивым, что в Ассизи (куда, как предполагают, он перебрался) в ходе своих работ он освоил стиль римских мастеров и, даже, развил его дальше. Вообще исследователи считают эту теорию наиболее правдоподобной, но так как конкретные факты жизни Джотто этого периода нам неизвестны, принимают ее лишь с оговоркой, состоящей в том, что если эта теория и дает удовлетворительное объяснение развитию Джотто как художника, она не освещает конечное «почему», то есть причину всеобщей в Италии оппозиции к византизму и изменения стиля и поворота к классицизму и реалистической трактовке сюжетов у мастеров папской резиденции, консервативного Рима и еще недавно незначительного в отношении искусства городка Флоренции.
Этот вопрос, принадлежащий к числу основных проблем истории искусства, был разрешен искусствоведом венгерского происхождения Фридьешем Анталом . Исходя из его трудов и использовав данные, полученные в результате недавней реставрации фресок Джотто, итальянские исследователи Гнуди и Баттисти развили значительно дальше положения Антала . И этот новый миф о Джотто, до тех пор пока не выплывут опровергающие его архивные или иные данные, еще долгое время останется неизменным.
Часть 2. Жизненный путь Джотто
Джотто родился в 1266 году, по всей вероятности, в деревушке Солле ди Веспиньяно, расположенной в долине речки Мугелло, в нескольких километрах от Флоренции. Отец художника, Бондоне, быть может, действительно происходящий из крестьян, еще до рождения сына обосновался во Флоренции.
Вероятно он занимался торговлей и поэтому принадлежал к зажиточным людям своего города. Это подтверждается и тем обстоятельством (хотя и не доказанным, но вообще принятым как факт), что сын Бондоне воспитывался в одном из наиболее солидных заведений Флоренции - школе доминиканского монастыря Мария Новелла.
Население Флоренции находилось тогда под сильным влиянием францисканского движения и другого монашеского ордена - доминиканского. В школу доминиканцев посылали своих детей и те горожане, которые по склонности или в интересах своего дела были членами третьего (светского) ордена св. Франциска. Флоренции, которая первая в истории Европы стала развивать ремесла и торговлю, развивать банковское дело, для облегчения торговли с другими странами была необходима наука, которую ее дети получали в школе доминиканцев, стоявшей в то время на исключительно высоком уровне.
Доминиканцы были теми посредниками, которые распространяли науку, достигшую в других городах Европы и Италии, в Париже, Кельне, Болонье, университетского уровня. Ко всему этому присоединялось еще открытие забытой античной культуры. Взамен хаотического и неорганизованного правового порядка средних веков флорентийским купцам была нужна повсеместно применимая, хорошо разработанная правовая система, которая и была найдена в римском праве. Исследования, касающиеся римского права, естественно, привели к изысканиям и в других областях античной культуры, которые облегчало повсеместное употребление латинского языка, на котором велись как научные исследования, так и преподавание.
Флоренция в период юности Джотто была средневековым городом-коммуной и оставалась им еще долгое время после этого. Уже тогда в ней появляются первые ласточки Ренессанса - люди, занимающиеся исследованием и переоценкой античных ценностей. В литературе это Брунетто Латини и Гвидо Кавальканти, которые послужили примером для Данте. Они не только оценивают античное наследие и следуют ему, но и сплавляют его с новыми индивидуальными интонациями, звучащими в рыцарской лирике Южной Франции. Вместе со своим великим преемником Данте - однолетком Джотто - они создают новый итальянский язык, вернее, заменяют латинский язык его тосканским диалектом.
Самым глубоким переживанием несомненно впечатлительного юноши было, вероятно, открытие того, что единственно вечным и истинным в мире является человек и природа. Джотто своим своеобразно лаконичным изображением действительности обогатил искусство подлинными человеческими чувствами и чертами. Такого рода мировоззрение художника сложилось, вероятно, не только под влиянием школы доминиканцев, не только благодаря влиянию культа чувств францисканцев и современной ему литературы, но и под влиянием его учителя Чимабуэ.
В настоящее время искусствоведы снова считают правильным утверждение Вазари, что Джотто учился в мастерской Чимабуэ почти с детского возраста, вероятно, начиная с 1272 года. Мы не знаем, каким образом шло в этой мастерской обучение Джотто живописи, не знаем, сопровождал ли он своего учителя в разные города, где тот получал заказы. Можно только установить, что у Чимабуэ наряду с византийскими декоративно-геометрическими чертами уже наблюдаются и другие тенденции, стремление к выражению проявлений внутренней жизни человека и к формам мира реальной действительности.
Учитель Джотто в лиричности видел основу эмоциональной выразительности картины и, в то же время, не боялся нарушить предписываемый иконописью колорит, когда хотел усилить впечатление реальности.
Джотто было, вероятно, около 24 лет, когда, как это вытекает из имеющихся в настоящее время сведений о нем, он создал свое самое раннее, считающееся подлинным произведение - огромное распятие высотой в 5 метров, находящееся в церкви Санта Мария Новелла, в котором молодой художник в изображении тела и в колорите превзошел своего учителя. К этому же времени относится и его брак с монной Чинта ди Лапо дель Пела, подарившей ему многочисленное потомство.
В период цехового строя браку художника обычно предшествовало основание собственной мастерской, что обеспечивало ему и его семье независимое существование. Неизвестно, поступил ли Джотто в соответствии с этим обычаем. Может быть, к этому времени своими работами он уже завоевал себе имя, доказательством чему - правда единственным - является тот факт, что в 1296 или в 1297 году новый предводитель ордена францисканцев призвал художника в Ассизи, с тем чтобы поручить ему роспись церкви св. Франциска.
Хотя нам известны лишь общие исторические, церковные и политические условия, в которых произошел этот заказ, все же из имеющихся в нашем распоряжении материалов можно сделать выводы, которые позволяют осветить идею и особенности стиля заказанного Джотто произведения.
Кардинал Дж. Стефанески в 1299 году пригласил Джотто в Рим и поручил ему исполнение огромных размеров мозаики, помещенной затем на фасаде собора св. Петра. Это, несомненно, высокохудожественное произведение, изображающее Христа и ладью со святыми, символизирующее католическую церковь, называлось «Навичелла» (ладья). Оно погибло при постройке нового собора св. Петра, но, благодаря описаниям, оказалась возможной его реконструкция. От первоначальной мозаики сохранились лишь две головы ангелов, но и они настолько искажены переделками, что не дают представления о первоначальном виде этого произведения. Подобная судьба постигла в Риме и другое произведение Джотто - фреску, изображающую торжественное празднование 1300 (юбилейного) года в церкви Сан Джованни ин Латерано, которую следующие поколения переделали на свой лад.
Вскоре после этого Джотто возвращается из Рима во Флоренцию, где в 1301 году покупает дом близ церкви Санта Мария Новелла. Приблизительно к этому времени можно отнести выполнение находящегося в флорентийской церкви Бадия полиптиха. Однако мастер вскоре снова покидает Флоренцию и отправляется в Римини, где расписывает стены францисканской церкви. От этой работы до нас дошла только ее тема: жизнь св. Франциска. В эпоху Ренессанса церковь была совершенно перестроена и фрески Джотто явились жертвой этой перестройки. Однако значение его пребывания в Римини можно оценить и без фресок: здесь, как и повсюду, где только он работал, Джотто создал школу, то есть лично передал другим достижения нового стиля, новые методы.
Из Римини его пригласили в Падую, где он расписал капеллу Скровеньи фресками, которые искусствоведы считают самыми важными произведениями Джотто. Капелла Скровеньи была построена на фундаменте римского круглого театра, почему ее называют также капелла дель Арена. Исторические обстоятельства этого заказа крайне сложны, они подробно рассматриваются в современных монографиях о Джотто. Мы здесь ограничимся лишь упоминанием о том, что Энрико Скровеньи был богатым купцом и членом рыцарского ордена Гауденти, состоявшего главным образом из богатых горожан. (О предке этой семьи Данте в «Божественной комедии» отзывается весьма нелестно.) Вследствие особого стечения обстоятельств заказчик чрезвычайно торопился с окончанием работ. Джотто был принужден работать в недостроенной капелле. В этих условиях была написана огромная фреска «Страшный суд», занимающая всю входную стену. Несовершенство ее композиции и неровность исполнения объясняются не только специфическими трудностями, вытекающими из сложности темы, но, прежде всего, тем, что при работе над этой фреской Джотто пришлось в гораздо большей степени, чем в других случаях, использовать учеников. Сам он во время создания этой огромной фрески работал над композициями для боковых стен. Однако рождением этих удивительных по своей красоте шедевров мы обязаны не только художественной зрелости Джотто, но и благоприятным условиям, расширившим его горизонт и значительно увеличившим запас его знаний.
Хотя мы и принуждены ограничиваться предположениями вытекающими из сочетания различных данных, все же имеются основания полагать фактом, например, встречу Данте и Джотто и связь их обоих с знаменитым в то время падуанским университетом. Важно также знакомство Джотто с Джованни Пизано. Еще не так давно исследователи приписывали этому событию решающее значение, а появление во фресках Джотто готических архитектурных элементов считали результатом влияния этого величайшего скульптора готики. (Исходя из этого, полагали, что ассизские фрески были написаны позже падуанских.) В настоящее время установлена несостоятельность этого предположения и признано, что готические детали в Ассизи были написаны позже учениками Джотто, тогда как родственные готическим, но, по существу все же не готические построения свидетельствуют о влиянии римских помощников мастера и относятся к так называемому стилю Космати. Из этой знаменательной для истории искусства встречи пользу извлек скорее Джованни Пизано, нежели Джотто, что видно из его скульптур в Падуе и других, более поздних, произведений. В Падуе большее влияние на Джотто (хотя и в отрицательном смысле), именно вследствие противоположности их характеров, оказал, вероятно, Данте, а также падуанские мистерии, отражение внешнего характера которых можно найти в «Страшном суде», а их духа - в драматичности фресок боковых стен капеллы. В Падуе Джотто также не мог работать спокойно, хотя ему и не пришлось бросить свою работу, как в Ассизи, но все же надо было спешить, чтобы закончить роспись ко дню освящения капеллы ; поэтому последние фрески носят на себе следы этой спешки: Джотто их не «выносил» и написаны они без обычной для него тщательности.
После освящения капеллы дель Арена Джотто еще остается в Падуе и расписывает фресками на астрологические темы большой зал палаццо Раджоне. Эти, к сожалению, погибшие произведения дают право считать Джотто основоположником живописи на светские темы.
Последние 20 лет своей жизни Джотто прожил во Флоренции. Достоверно известно, что он был землевладельцем и имел дома. Он обладал большими денежными средствами и фигурировал в качестве поручителя некоторых сограждан в их банковских операциях. Кроме того, он владел многочисленными ткацкими станками и отдавал их напрокат по установленным ценам (которые в наше время заслужили бы название ростовщических) и таким способом тоже приумножал свое состояние. Считают, что в конце 1310-х годов он расписал церковь Санта Кроче, но сохранились лишь фрески капелл Барди и Перуцци. Недавно возрожденные, благодаря удалению более поздних наслоений красок, они вполне оправдывают то восхищение, которое вызывали у мастеров Ренессанса. Их можно рассматривать как образцы, которыми в своих произведениях вдохновлялся Мазаччо. В это же время Джотто написал во дворце Баргелло (бывшего бургомистром города) фреску «Небесная республика». На разрушающейся поверхности стены дворца благосклонная судьба сохранила, хотя и не в первоначальном виде, портрет молодого Данте.
Деятельность Джотто заслужила признание флорентийских граждан : в 1327 году Джотто и два его ученика были приняты в члены важнейшего в городе цеха «Medici e speciali». Исключительное положение художника проявляется также в его отношениях с неаполитанским королем Робертом Анжуйским. В 1329-1333 гг. Джотто работал в его придворной капелле и в большом зале Кастель дель Уово, где писал портреты знаменитых людей. (К сожалению, эти произведения погибли.) Целый ряд записей, анекдотов и новелл доказывает, что Джотто держался при дворе с таким сознанием собственного достоинства, что король обходился с ним, как с равным.
Из Неаполя Джотто призвали в Болонью, но произведения, созданные им там, погибли. Такая же судьба постигла и фрески, которыми он украсил дворец Висконти в Милане. Известно, что темой их были портреты известнейших правителей античного мира.
Вскоре после этого на Джотто была возложена огромная работа во Флоренции : в 1334 году, после смерти зодчего Арнольфо ди Камбио, ему было поручено руководство строительством собора и ведение инженерных работ при постройке крепостных сооружений города. Он спроектировал знаменитую своей красотой Кампаниле (колокольню), которую украсил богатыми, цветными декорациями. Он изготовил также планы барельефов колокольни, выполненные позже Андреа Пизано. Эти барельефы по своему содержанию напоминают изображения месяцев на французских готических соборах, но носят более светский характер и превосходят классически ясной композицией. Они представляют собой не придатки к архитектурному ансамблю, а равные ему по значению, самостоятельные, акцентированные изображения. Джотто дожил только до начала этого большого строительства. 8 января 1337 года он скончался в возрасте 70 лет. Простая мраморная плита указывает место его погребения в церкви Санта Кроче.
Часть 3. «Францисканские» росписи Джотто
Колоритная фигура Франциска Ассизского, основателя ордена нищенствующих монахов, который сначала был объявлен еретиком, а потом произведен в святые, заслуживает того, чтобы о нем вспомнить. Он жил в конце XII и начале XIII века. В молодости Франциск был богат, расточителен и погружен в «греховную суету», как говорят старые источники. Потом он пережил некий перелом, обратившись к богу. Но его религиозность была своеобразна. Две черты характеризуют учение Франциска: проповедь бедности и особый христианский пантеизм - Франциск учил, что благодать божья живет во всякой земной твари, разлита во всем существующем - в звездах, растениях, животных, которых он называл братьями человека. В росписях ассизской церкви есть сцена: Франциск проповедует птицам.
Как будто бы очевидно, что францисканство - вполне в духе тех народных ересей, которые, по существу вскормили собой культуру средневековых городов. И поклонение «государыне бедности» и трогательная любовь к «божьей твари» сквозили в облике готических соборов. Это, по-видимому, противоречит принципам развитого Возрождения, которое больше ценило богатство и власть, чем бедность и смирение. Учение Франциска коренится в миросозерцании средневековья. Но случайно ли оно было поднято на щит проторенессансной культурой? Именно у Джотто и его школы мы находим поэтическую апологию деяний Франциска, а Данте повествует о них устами обитателей рая. Видимо, пантеизм Франциска заключал в себе и что-то новое, что-то отдаленно перекликающееся с пантеизмом греков. Он проникнут приятием мира: Франциск не осуждает мир за его греховность, а любуется его гармонией; ему дорого земное, естественное, тогда как неуемная фантазия средних веков охотно творила химер и чудовищ. Религиозная поэзия не знала ничего более радостного, чем «Хвала творений» Франциска, где он хвалит господа вместе с «братом солнцем», «сестрой луной», «сестрой водицей», и заканчивает так:
Хвала тебе, господь мой, от нашей матери-земли,
Она питает нас и нами руководит,
И порождает нам плодов такое множество,
Цветы дает нам красные и травы!
В эпоху бурного драматизма средневековья францисканство несло более спокойный, светлый и чувственный аспект мировосприятия, который не мог не привлекать предтеч ренессансной культуры. Двойственная природа францисканства лишний раз убеждает, что Возрождение не было чистым отрицанием средневековья и последнее присутствовало в нем не только в качестве пережитков: был более сложный и органический процесс перерастания одного в другое.
В последней трети XIII века францисканский орден высказывался против украшения храмов, вследствие чего уже начатые в Ассизи такого рода работы были прекращены.
Приглашение Джотто, свидетельствует о его тесных связях как с папским окружением, так и с патрицианским крылом францисканцев. В этом пункте великие флорентинцы - Данте и Джотто - расходятся : поэт был сторонником императора и непримиримым врагом папы, тогда как художник в течение некоторого времени состоял почти исключительно только на службе у папы. Если предположить, что до получения заказа Джотто уже находился в Риме, это объяснило бы сразу и формирование его нового художественного стиля и сам факт получения такого крупного заказа. Над фресками верхней церкви св. Франциска в Ассизи Джотто работал вместе с многочисленными помощниками и, так как он приехал туда из Рима, то весьма вероятно, что хотя бы часть его помощников была Привезена художником из Вечного города. Эта гипотеза могла бы разрешить многочисленные вопросы, касающиеся времени возникновения ассизских фресок и имен писавших их мастеров. Джотто, едва достигший к этому времени 30 лет, руководил всеми работами. Ему целиком принадлежит план росписи, но степень участия в исполнении отдельных фресок различна, художник ограничился, по-видимому, главным образом работой над изображениями отдельных фигур.
Когда затем папа призвал Джотто в Рим, начатые в Ассизи работы продолжались в отсутствие мастера на основании его проектов и в его стиле, но художественный уровень отдельных частей далеко неравноценен.
Оценка значения дошедших до нас работ - фрескового цикла в верхней церкви св. Франциска в Ассизи - затрудняется большим количеством стилевых проблем, вызванных участием в этой работе большого числа учеников, часто проявлявших в деталях совершенно чуждую Джотто трактовку темы. Поэтому мы сосредоточим наше внимание на падуанском цикле фресок, хотя это, принимая во внимание, что их реставрация начнется в ближайшем будущем, связано с некоторой опасностью в том случае, если - как мы убеждены - результаты не будут такими изумительными, как при раскрытии фресок церкви Санта Кроче.
В качестве исходного пункта мы возьмем ассизские фрески, так как, несмотря на всю их проблематичность, в них сказались уже специфические художественные устремления тридцатилетнего, то есть сложившегося художника.
С тех пор как почти достоверно известно, что в ассизских фресках задний архитектурный план писали римские мастера, которые в своем понимании архитектуры, и, особенно, в украшении деталей были представителями стиля Космата, говоря о творчестве Джотто, нельзя, как это делалось прежде, придавать чрезмерное значение архитектурному заднему плану и связанным с ним попыткам передачи перспективы. И не в этом следует искать основные заслуги в то время уже зрелого мастера, хотя Джотто и внес свой вклад в область построения пространства. Этот вклад явился не только разрешением формальной проблемы, но имел и принципиальный характер. Джотто обогатил схему пространственного изображения, подготовленную Космати, переработав ее в соответствии со своими индивидуальными представлениями и придав ей пространственность иного, высшего, не описательного, а композиционного характера. Сущность джоттовского изображения пространства состоит в расстановке фигур в пространстве, чего он достигает путем объемности изображения. Нет сомнения в том, что подобные приемы встречаются и в рельефах Никколо Пизано и во фресках Каваллини; последний, чтобы достичь впечатления пространства, прибегает также к эффектам светотени. Однако у Джотто пластичность носит иной, динамический характер. Его человеческие фигуры не только замкнуты, структурны и телесны, но помимо всего этого активны в пространстве и их пространственные движения передают их душевные переживания и преодолевают изолированность отдельных фигур друг от друга. На картине Каваллини Христос и апостолы представляют собой размещенные рядом единицы, независимые друг от друга как пластически, так и идейно. У Джотто динамика формы отражает драматизм внутренней жизни. Изображая две фигуры различного содержания, он ставил их в активное взаимодействие, изображение которого было равнозначно рождению диалога в драме. Таким образом, значение Джотто в изобразительном искусстве, раскрывающееся при рассмотрении ассизского цикла, можно уподобить значению отца греческой драмы Эсхила, который ввел в театральное действие второго актера, благодаря чему оно приобрело способность выражать через личное общественные конфликты.
Среди произведений, принадлежащих несомненно самому Джотто, наибольшее впечатление производят те, в которых наивные попытки перспективного изображения архитектурного окружения не отвлекают внимания от главного - изображаемой на картине драмы. Такова, например, фреска, в которой св. Франциск отрекается от земных благ и порывает с отцом. Изображенные фигуры разделены на две группы и архитектурный фон каждой из них создает лирическую атмосферу, словно разделенный на две части хор греческой драмы. Впереди каждой группы расположен ее главный герой : с одной стороны - богатый отец, с другой - сын, добровольно обрекающий себя на нищету. Картина не просто иллюстрирует определенное событие, она нечто гораздо большее, чем иллюстрация: это драма, в которой традиция (ограниченность корыстолюбия, консервативные общественные стремления), убежденная в своей правоте, выступает против будущего, борющегося с ней во имя осуществления новых идей. Гнев отца, его патриархальное достоинство воплощены глубоко правдиво, потрясающе и убедительно, также как и одухотворенный образ Франциска, который, подняв лицо и молитвенно сложенные руки к небу - то есть к миру духа - просит помочь ему пережить испытываемое потрясение и быть достаточно твердым, чтобы выполнить принятое им решение, содержащее в себе вызов судьбе и направленное против него самого.
В области контрастов и драматизма, в различных формах проявляющихся в ассизских фресках, Джотто дает удивительные варианты. Он то противопоставляет стремительность явления святого пассивности людей, погруженных в сон, то, символизируя Франциска, поддерживающего обветшалое здание католической церкви, выражает огромность драматического деяния героя, изображая его подпирающим громадное рушащееся сооружение; в картине «Изгнание демонов из Ареццо» духовная сила, проявляющаяся здесь пластично, весомо, противопоставлена целому городу - гигантской массе мертвой материи, населенной демонами; «Испытание св. Франциска огнем перед султаном» - драма с многочисленными участниками, лапидарная по стилю и тревожная по настроению, как пятый акт классической трагедии, когда приближается развязка и зрители в последние минуты с захватывающим интересом ждут разрешения драматического конфликта : одержит ли новая идея победу или потерпит поражение. Св. Франциск, изображенный между султаном, повелительным жестом, указывающим на пламя, и языческими мудрецами, в страхе бегущими от испытания огнем, олицетворяет победу новой идеи.
Фантазия Джотто неистощима и каждое его произведение обогащается новыми находками, что лучше всего подтверждает одна из его известных фресок «Святой Франциск проповедует птицам», с полным основанием вызывающая всеобщее восхищение. На эту тему писали уже многие художники, но Джотто дал этому очаровательному, полному специфического настроения эпизоду легенды новый, вселенский смысл. В этом произведении в полной мере видна одна из основных новых черт его творчества - любовь к природе, уважение даже к самым мелким явлениям действительности, словом - новый метод наблюдения природы, который учит людей города, знакомящихся с природой, смирению и, в то же время, человеческому достоинству.
Однако художественный метод Джотто отличается от подробного анализа, характерного для кватроченто, он не стремится к детализации. Его занимает вопрос о том, как можно прочувствовать зависимость друг от друга большого целого и его малой части, какова связь между человеком и действительностью.
В образе святого, склонившегося к птицам, которые слетаются к его ногам, раскрывается сила человека и его бесконечные возможности. Несмотря на всю свою смиренность, движение проповедника вызывает представление о новом сотворении мира. В этом произведении новое мировоззрение воплотилось с пророческой силой так же грандиозно, мощно и сжато, как во фресковом цикле Микеланджело, в котором нас восхищает завершенность и полноценность осуществления именно джоттовских взглядов. Наряду с стремлением к величию и грандиозности у Джотто хватило таланта и на то, чтобы создать такую непревзойденную по своему реализму фигуру, как мужчина, пьющий воду в картине «Св. Франциск извлекает воду из скалы», большую часть которой приписывают, впрочем, его ученикам.
Все это, однако, лишь начало, более глубокий анализ которого затрудняют еще неразрешенные проблемы. Поэтому сосредоточим все наше внимание на грандиозном комплексе падуанских фресковых циклов капеллы дель Арена, состоящем более чем из 70 фресок. Выше уже упоминалась фреска на входной стене и говорилось о связанных с ней эстетических проблемах. Поэтому мы перейдем к разбору и описанию самой важной части росписи капеллы дель Арена - фрескам боковых стен.
Часть 4. Изображение Джотто событий из жизни Марии и Христа в Капелле дель Арена
В интерьере Капеллы дель Арена, расписанной Джотто, уже торжествует принцип расчленения и равновесия. Фрески расположены ровными рядами и заключены в прямоугольники - почти так, как расчленены на прямоугольники фасады проторенессансных зданий. Собственно, это картины, написанные на стенах. От картины к картине художник ведет зрителя через последовательные эпизоды истории Христа, начиная с истории его предков - Иоакима, Анны, Марии. В каждой сцене участвует несколько действующих лиц, все они закутаны в простые, падающие крупными складками хламиды, все имеют схожий тип лица - продолговатого, с тяжелым подбородком и близко поставленными глазами. П. Муратов, автор книги «Образы Италии», очень точно сказал о Джотто: «Он видел какое-то одно человеческое существо во всех бесчисленных фигурах, наполняющих его фрески» . Обстановка, место действия всюду намечены очень скупо: условными архитектурными павильонами, напоминающими раздвижные декорации на сценической площадке. Тонкие колонки, портики, арки нужны только для того, чтобы показать, что действие происходит в помещении или около него, чтобы выделить ту или иную мизансцену, создать обрамление для фигуры. Там, где фоном служит пейзаж, он похож на знакомые нам горки в русских иконах. И нигде никаких подробностей. Никаких красочных вспышек. Светлые, холодные краски, гладкая фактура.
Не разочаровывает ли нас великий Джотто? Нет, - в этих простых композициях, в этих укутанных фигурах есть огромная человеческая значительность.
Джотто избегает слишком драматических выражений страсти, но не становится бесстрастным. Он передает глубину переживаний в скупых пластических формулах. Вот Иоаким, изгнанный из храма, медленной поступью возвращается к своим стадам; он только слегка наклонил голову и потупил глаза, не замечая собаку, которая радостно его встречает, а пастухи при виде его молча переглядываются. И это все. Немногословно, с библейским величием, обрисована душевная драма Иоакима.
Тематика этих фресок как нельзя лучше отвечала устремлениям Джотто. Он любил природу и охотно воспроизводил спокойную жизнь вне городов в ее буколической гармонии; ему нравилось чувствовать и выражать искренние, идущие, от сердца, благородные чувства величавых как патриархи простых людей, в изображение которых он вкладывал свою неиссякаемую изобретательность и то благоговение, с которым воссоздавал память о «золотом веке». Но «золотой век», раскрываемый перед нами Джотто, чрезвычайно реален: тысячи нитей связывают его с действительностью, и в нем нет недостатка ни в трудностях, ни в испытаниях. Как чудесно представлена Джотто история отца Марии, Иоахима : изгнание его из храма и унижение человека, не имеющего крова, просящего пастухов приютить его; сновидение, в котором раскрываются сокровенные тайны его души; моисеев гнев, когда Иоахим наблюдает, как зажигается огонь искупительной жертвы ; и, наконец, его возвращение в город, в воротах которого он встречается с женой Анной.
В истории искусства трудно найти произведение более трогательное, чем это на подъемном мосту перед городскими воротами, словно священнодействуя, торжественно и примирительно обнимают друг друга двое старых, но еще крепких людей. Здесь сплетаются не тела, а души. Каждый из них - замкнутое скульптурное целое, они стоят рядом друг с другом, как два столпа. Кажется, что Джотто хочет внушить зрителю, что эти люди хотя и не в силах внешне выразить свои переживания, но, испытывая взаимную привязанность, угадывают чувства и мысли друг друга и откликаются на них. Но, подобно тому, как в греческой драме, и в этой картине огромная, в масштабе вселенной, радость примирения таит в себе рок в образе загадочной женщины в черном, стоящей немного поодаль от других женщин, вышедших навстречу Иоахиму. Она предостерегает и напоминает, что безоблачных радостей нет, и что за каждую минуту счастья будущее взимает проценты горестями. Так, при помощи намеков, связывает Джотто свою работу в стройный цикл, в поучительную поэму для простых людей и предваряет гармоническую последовательность дальнейших сцен.
История Марии вливается в цикл, отражающий легенды о жизни Христа. Лучшей фреской из цикла, посвященного Марии, является «Благовещение». В этой росписи, украшающей триумфальную арку церкви, в передаче движений, выражения лиц и возвышенного настроения художнику удалось достичь выражения вершины красоты. Сходна с ней и другая фреска - «Явление ангела св. Анне». Она изображает внутренность сельского дома, спокойствие которого, выражаемое написанной с реалистической силой фигурой пряхи, внезапно нарушает ангел, появляющийся в высоком окне комнаты и своею вестью вносящий тревогу и беспокойство в мирное жилище. Анна - настоящая римская героиня - с непоколебимой твердостью человека, верящего в свои силы, выслушивает ангельскую весть и именно эта трактовка придает традиционной теме новый смысл. Долг человека - возвещает этой картиной Джотто, - следовать велениям Бога и морали. Отступление перед этой задачей равносильно предательству Иуды. Тот же героизм подвижничества ощущается и в «Свидании Марии с Елизаветой», потрясающей в своей простоте и немногословности. Быть может, наиболее условна фреска «Рождество». Византийская традиция, проявляющаяся в ней, несколько видоизменена благодаря некоторым заимствованиям у Пизано в трактовке темы семьи. Другое его произведение отличается своеобразной репрезентативностью. Это -- «Поклонение волхвов». В этом произведении в сиянии светлых тонов, пронизанных золотом, слышатся столь редкие у Джотто аккорды интимной прелести и красоты.
История Христа, в понимании Джотто, это пример величия человека, пример верности чувству долга и непрерывных моральных испытаний. Готическая психомахия (борьба между добром и злом) показывает нам величие Христа, как идеального человека, еще до событий страстной недели : полную уверенности духовную силу в «Чуде в Канне», возвышенность и глубокую убежденность духа в «Изгнании торговцев из храма». В этих картинах Джотто дает почувствовать, что трудное детство, которое художник изобразил в «Бегстве в Египет», и воспитание Иисуса героической матерью закалили дух человека идеи, сына божьего. Следующая значительная подготовительная картина «Воскрешение Лазаря» рассказывает о силе, ставшей уже сверхчеловеческой. Энергия, излучаемая взглядом Христа, призывает к жизни мертвого Лазаря и это чудо потрясает присутствующих, повергая их в изумление и страх. Словно желая подготовить зрителя к той ненависти, которая вскоре обрушится на Христа, Джотто наращивает темп повествования, непривычно сильно акцентируя каждый мотив картины. В композиции он сознательно нарушает строго соблюдавшийся в то время принцип симметрии : чтобы подчеркнуть мощь Иисуса, он группирует в одной стороне фрески целую толпу людей, которая уравновешивается почти одиноко стоящей в другой стороне фигурой Христа, воплощающей нравственное совершенство и власть. Завершение характеристики Иисуса и в то же время изображение последующих событий страстной недели подготавливают фрески «Омовение ног» и «Тайная вечеря», показывающие смирение Христа и проникновенно рисующие его гуманизм и любовную заботу об учениках. Но это возвышенное настроение нарушается : одновременно с Иисусом в блюдо опускает руку и Иуда (который этим выдает себя, как предателя) и эта встреча рук символизирует сопоставление нравственного превосходства Христа и сознание своей вины предателем, который обречен отныне, по велению Христа, как тень, неизменно следовать за ним и действовать, полностью сознавая собственную низость.
В следующих картинах драматизм событий страстной недели приглушен. Джотто стремился избегать утрированного изображения страданий. В его высоком понимании Христа это был бы слишком дешевый метод, он оставил его францисканским проповедникам, привыкшим вызывать у слушателей слезы рассказами на эти темы. Те, кто упрекают Джотто - как это еще недавно случалось - в том, что он пренебрегал таким средством воздействия на массы плебеев, не понимают его. Джотто не ставил перед собой задачи просто рассказать зрителям о страстях Христовых и этим расстрогать их. Его цель была несравненно выше : он стремился к созданию высокого человеческого, а не религиозного идеала путем показа героя, как образца нравственного величия.
В такой интерпретации фресок на тему страстной недели становится понятным умеренность Джотто и, даже, местами вспыхивающий юмор, как, например, в изображении сатаны в момент, когда Иуда продает Христа.
Самой полной художественной проникновенности достигает Джотто во фреске «Поцелуй Иуды». В центре композиции, среди угрожающе взметнувшихся копий и факелов, он помещает два профиля - Христа и Иуды, они близко-близко смотрят друг другу в глаза. Чувствуется, что Христос до дна проникает в темную душу предателя и читает в ней как в открытой книге, - а того страшит непоколебимое спокойствие взора Христа. Это едва ли не первое и едва ли не лучшее в истории искусства изображение безмолвного поединка взглядов - труднейшее для живописца. Джотто любил и умел передавать молчаливые, многозначительные паузы, мгновения, когда поток внутренней жизни как бы останавливается, достигнув высшей кульминации.
«Венчание Христа терновым венцом» повторяет эту же тему, лишь в трагикомическом варианте. Фреска «Распятие» - лишь заключительный эпизод. В ней обнаруживается блестящий талант Джотто в изображении человеческого тела и склонность к лирике, переходящей в элегичность. Как в этом, так и в других произведениях отсутствует элемент чудесного, чуждый джоттовской трактовке темы. (Его изумленные современники шептались о том, что художник не признает церковных догм и даже отвергает учение о непорочном зачатии.) Поэтому поднимается на такую высоту дарование великого мастера в сценах на тему страстной недели, где созвучные нам человеческие моменты богаче, чем сами темы. Такова самая потрясающая из падуанских фресок - «Оплакивание Христа».
В композиции ученики Христа и женщины глубоким неотрывным взглядом, с какой-то улыбкой боли в последний раз всматриваются в лицо умершего; горестная торжественность минуты оттеняется подобными изваяниям скорби задрапированными фигурами первого плана, повернутыми к зрителю спиной. В левом углу композиции на коленях матери покоится тело Христа, а вокруг стоит толпа святых. Однако их удрученные позы и неловкие жесты менее выразительны чем небо и задний план. Из правого верхнего угла, по диагонали, в направлении к телу Христа спускается скалистая стена и на ней - засохшее деревце. И скала, и деревце чрезвычайно символичны. В небесах, занимающих две трети картины, слетаются, низвергаются вниз рыдающие ангелы. Их полет, переходящий в падение, подчеркивает вселенское значение происходящей трагедии. Умер Христос! Великая боль, причиненная этой смертью и несправедливостью, нарушила гармонию вселенной. Если природа и бесплотные духи акцентируют этот момент, то движения группы людей, оплакивающих Христа, просты, наивны и мало выразительны. Лишь материнское горе Марии, которая как к ребенку обращается с ласковыми словами к своему мертвому сыну, равно по своей выразительности исступленности ангелов.
Но зато какая солнечная одухотворенность исходит от следующей картины - «Воскресение»! Джотто изобразил на ней не христианское чудо, а скорее языческую мистерию. В левом углу картины солдаты, уснувшие в неестественных позах; над ними ангелы, сидящие на краю гробницы, а справа, как олицетворение победы, держа в руке знамя, поднимается Иисус, словно рвущийся из плоскости картины. Он отстраняет простертые к нему руки коленопреклоненной Марии-Магдалины. «Не прикасайтесь ко мне!» - таково название этой сцены, означающее, что Джотто подчеркивает в ней не элементы чудесного, а ее морально-этический характер, иными словами, он трактует сюжет как гуманист, воплощающий в ней силу и чувство собственного достоинства человека сильного духом, не сломленного страданиями. По сравнению с «Воскресением» заключительные фрески цикла о жизни Христа - «Вознесение» и «Сошествие святого духа» - только дополнения, которые носят лишь повествовательный характер.
Роспись капеллы дель Арена в Падуе была выполнена Джотто в период расцвета его таланта. В ней можно сразу увидеть все достоинства творчества мастера, обеспечившие ему в истории искусства почетное положение, значение великого новатора, поднимающего множество вопросов и являющегося образцом для других художников. Его влияние простирается на целые века. Творчество Джотто послужило началом Ренессансу, в великую эпоху которого его значение было не меньше, чем значение Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля или Мазаччо.
Часть 5. Художественные «открытия» Джотто
Рассмотрим новые художественные приемы, которые Джотто использовал в работе над своими фресками. Прежде всего в его работах поражает впечатление пространства. Джотто не был знаком с античной живописью, но он вновь открыл разработанную ею и забытую с тех пор перспективу. Однако в его произведениях пространственность не представляет собой самодовлеющей игры в иллюзию, характерной для античных художников, а лишь подчеркивает правдоподобность изображаемой сцены и служит для ее большей наглядности. Пространство, создаваемое Джотто, неглубоко, точно ограничено и часто напоминает архитектурные декорации театральной сцены. Сравнение с театром тем более уместно, что, как полагают некоторые исследователи, Джотто не избежал влияния популярной в то время в Италии своеобразной формы готического искусства - разыгрывания мистерий. Но Джотто - талант эпико-драматический, который, несмотря на свою лаконичность, дающую наилучший эффект при трактовке образов, предпочитает медленно, но в то же время заостренно, развертывающееся действие. Кулисный пейзаж в этом случае является средством характеристики. Например, в «Бегстве в Египет» художник обособляет и подчеркивает фигуры, мерным шагом проходящие на первом плане, изображая гору или дом, громоздящиеся сзади, как бы определяя степень важности каждой из них. Так преодолевает Джотто чуждые реальному миру противоречия византизма и опровергает иконописный канон, согласно которому масштаб фигур определяется их иерархическим положением и ролью в изображаемой сцене.
Элементы пространственности имеют у Джотто и иное назначение: они связывают отдельные части композиции, удаленные друг от друга, и определяют их взаимодействие. Такова, например, тянущаяся вниз скалистая стена в «Оплакивании Христа». Порой эти элементы становятся определенно носителями идеи, получают символическое значение. Вспомним хотя бы в той же фреске засохшее деревце, символизирующее судьбу Иисуса.
Композиция, будучи не чем иным, как взаимодействием отдельных компонентов, подчиняющихся ведущей, точно сформулированной идее, определяет таким образом зависимость между фигурами, перспективой и пейзажем. Но в джоттовской концепции главной темой является все-таки человек и его поступки. Мы уже указывали, что человек Джотто - герой, исполненный сознания собственного достоинства, в котором сочетаются широта и сдержанность. Необходимо добавить, что образы Джотто не похожи на современные ему сложные индивидуальности, они скорее напоминают персонажи готического искусства, стоящие между аллегорией и действительностью. У Джотто каждая фигура - тип, олицетворение какого-нибудь морального свойства или черты характера, целенаправленной воли. Каждый подобный персонаж у Джотто имеет свое строго определенное положение и сферу действий, так же, как у Данте, помещающего своих героев в геометрически расчлененные подразделения ада, чистилища и рая.
Такие определенно очерченные фигуры как нельзя лучше способствуют развертыванию драматической композиции. Контрастные по своему содержанию образы, как, например, в «Поцелуе Иуды», часто сталкиваются, не проникая, однако, друг в друга, ибо, согласно философским взглядам готики, добро и зло нераздельны, образуя в сочетании совершенное, при этом сохраняя особую замкнутость джоттовских образов, их изолированность и твердокаменную массивность форм.
Хотя вообще Джотто изображает человека соответственно нашим понятиям, анатомия его не интересует. В ходе своей работы он не одевает нагое тело, а как бы сразу представляет себе своих персонажей в драпировках и в костюмах, вследствие чего фигуры его величественны и замкнуты. Это обстоятельство, наряду с особенностями фресковой живописи, необходимо иметь в виду при рассмотрении или анализе цветового строя джоттовских композиций, состоящего из чистых основных тонов. Минимальными средствами достичь максимальной выразительности, ясности и общедоступности - такова цель художника.
К падуанским фрескам, особенно к аллегорической фигуре «Справедливость» примыкает большая картина, написанная на доске, «Маэста» («Мадонна со святыми и ангелами»), которая из церкви Оньсанти была перенесена в музей Уффици во Флоренции. Смысловой центр композиции - величаво торжественная мадонна, восседающая на троне, подобно некой языческой богине; воплощенная в ней крестьянская сила, как бы почерпнутая из земли, поднимает картину до символа плодородия, то есть до выражения по существу светской темы. Глубокую, но отнюдь не застывшую величественность мадонны смягчает близость маленького Иисуса и ангелов, проникнутых нежностью к младенцу, а также исключительно тонкий колорит картины. Вся картина длительное время считавшаяся ранним произведением Джотто, безусловно, еще очень архаична, о чем свидетельствует архитектурное обрамление и сведенная до минимума перспектива. Традиционность этой работы объясняется ее назначением: в данном случае Джотто сознательно придерживался канона алтарной иконы.
Из числа произведений, достоверно принадлежащих кисти самого Джотто, самыми поздними являются уже упомянутые флорентийские фрески капелл Барди и Перуцци. Они имеют решающее значение именно потому, что дают представление о том, какими могли быть еще более поздние, совершенно светские по духу, полностью утраченные, работы. Флорентийские фрески, хотя на них и изображены события из жизни св. Иоанна и св. Франциска, по существу не являются религиозными. Во время работы над ними Джотто интересовали не религиозные моменты, не чудеса, совершаемые святыми, а трактовка места действия, окружения и обстоятельств. Изобилие второстепенных персонажей, типов и характеров настолько поглотило его внимание, что изображение чуда не акцентируется. Поэтому многие исследователи считали эти фрески сравнительно слабыми и «вялыми». Однако после реставрации это мнение изменилось; в них обнаружились крупные живописные достоинства. По своей пластичности и реалистическому характеру они превосходят все предшествовавшие произведения Джотто и показывают, что мы имеем здесь дело с новым - светским - стилем великого мастера, одновременно раскрывая историческое значение этого стиля. Достигнутый в падуанских фресках новый этап художественного развития не допускал больше той драматизации, которой проникнуты ассизские и падуанские фрески, ибо изображение повседневной жизни и среды, в которой она протекает, требовало иных средств. Так, например, Джотто ввел симметрическое распределение, новый способ создания равновесия формы, в сущности способ композиции, хорошо известный по картинам Мазаччо и Беато Анджелико, который считается характерным уже для эпохи кватроченто (то есть для XV века). Этот факт существенно увеличивает значение творчества Джотто.
Если же к этому добавить, что детали флорентийских фресок изобилуют портретами и исключительно удачны в колористическом отношении, то перед нами вырисовывается образ помолодевшего в старости, всем своим существом современного художника. Это объясняет нам и то, почему флорентийские мастера XV и XVI веков так часто совершали паломничества в капеллы церкви Санта Кроче, рассматривая и изучая эти фрески. Ибо такие художники, как Мазаччо, Беато Анджелико, Пьетро делла Франческа, Леонардо, Рафаэль и Микеланджело видели в Джотто своего непосредственного предшественника и художественный образец для себя.
Слава Джотто была велика еще при жизни, а в следующем столетии его единодушно признавали величайшим преобразователем искусства. Рассказывали, что в детстве он пас овец и рисовал их углем с натуры, а впоследствии, сделавшись художником, отдался изучению природы. Это характеристика слишком общая, и она может показаться даже неверной: изучения природы в том смысле, как понимали кватрочентисты, у Джотто еще не было. При этом ему ставили в главную заслугу обращение к наблюдениям окружающей жизни. Джотто еще не было. Он не знал ни анатомии, ни научной перспективы; по его произведениям видно, что пейзаж и обстановка интересовали его мало, и как раз изображение овечек, там где они у Джотто встречаются, оставляют желать много лучшего в смысле их природного правдоподобия. Любопытства ко всяческим красочным подробностям мира было больше у готических художников. чем у Джотто, а позже, соединившись с научной любознательностью, оно с новой силой вспыхнуло у художников кватроченто. Джотто же, стоящий между теми и другими, был занят только человеком, человеческими переживаниями и задачей их монументального воплощения в формах достаточно условных.
И все же - была большая доля истины в молве, признавшей Джотто верным учеником природы. Не только потому, что он ввел в живопись чувство трехмерного пространства в стал писать фигуры объемными, моделируя светотенью. В этом у Джотто были предшественники, например живописец Каваллини. Главное - само понимание человека у Джотто было согласным с природой, с человеческой природой. Душевные движения героев Джотто не выше и не ниже человеческой меры и для этого действительно нужно было быть глубоким наблюдателем окружающей жизни.
П. Муратов писал, что позднее искусство Джотто, несмотря на явные «готицизмы», поражает классичностью: «Все, что сделано Джотто, отличается глубоким единством и богатм развитием стиля…его живопись исчерпывает до конца все его задачи, она становится окончательным выражением всех его замыслов» .
Список используемой литературы
1. Antal F. Florentine Painting and Its Social Background, London, 1947
2. Gnudi C. Giotto, Milano, 1959
3. Алпатов М. В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто, М.-Л, 1939
4. Вегвари Л Джотто Будапешт, Изд. Корвина, 1962
5. Власов В. Г. Стили в искусстве, СПб, Кольна, 1996, т. 2
6. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств, М, Искусство, 1997
7. Муратов П. Образы Италии. М, Республика, 1994
8. Флоренский П. Обратная перспектива. - В кн: У водоразделов мысли. М., Правда, 1990, т. 2
http://www.history.ru/index.php?option=com_ewriting&Itemid=0&func=chapte...
СВ. ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ И ПРОБЛЕМА РЕНЕССАНСА
(1226-1926)
Пётр Бицилли
Франциск умер 3 октября 1226 года. Так несомненна и так очевидна была его святость, что Римская Церковь не стала оттягивать, как того требовал благоразумный обычай, срока для его канонизации: уже в 1228 г. она закрепила своим решением общий приговор. Приуроченное к канонизации первое житие, писанное Фомой Челанским, отражает поэтому еще свежее впечатление, оставленное святым. К этому житию примыкает житие, составленное по рассказам трех сотоварищей Франциска (Legenda trium sociorum) и ряд отрывков, восходящих, вероятно, к брату Леону, вошедших в позднейшую компиляцию Зерцало Совершенства. Вместе эти произведения образуют древнейший слой францисканской исторической традиции об основателе Ордена. Материалом для ее проверки служат: принадлежащие самому ФранцискуПравило Ордена и его Завещание, заключающее в себе некоторые автобиографические сведения. Научной критикой эта традиция достаточно освещена. Цикл житийных сказаний о св. Франциске составляет легенду о нем. Legenda - буквально значит: то, что надо читать, что надо знать о святом.
Подобно авторам Евангелия („благовествования”), агиографы не писали „документально-точных” биографий, биографий-хроник, вроде Трудов и дней Пушкина и сознательно не хотели их писать. Они добивались не протокольной, не фотографической, но высшей, идеальной правды. Они сочиняли „легенды”, или брали уже готовые, в качестве элементов Легенды, жития, повествующего о высшей правде и вечном смысле жизни святого. Все дело - в степени единства, органичности и, стало быть, художественной истинности Легенды. Обычно средневековый агиограф, писавший о более или менее отдаленном во времени святом, брал последнего в качестве, так сказ[ать], носителя определенных „истин” и „примеров”, эксплуатировал его как повод для символической формулировки догматическихобщих мест. С Франциском, который был еще на памяти у всей Италии, так обращаться нельзя было, уже в силу этого одного обстоятельства. Франциск в своей легенде индивидуализирован, но вместе с тем и „стилизован”. Можно утверждать, что, если бы „братья” Франциска и не знали ничего о том, как пишутся „легенды” и не располагали никакими образцами этого рода, они все-таки не стали бы писать о нем так, как, примерно, Сергеенко и К-о писали о Толстом. Ведь брат Леон, брат Фома, брат Бернард да Квинтавалле, брат Руф[ф]ин и брат Ангел были действительно братьями св. Франциска и по духу, т.е. были приобщены к той высшей жизненной сфере, в которой он подлинно пребывал, и ведь святой Франциск был подлинно святым и отвечал тем двум необходимым и достаточным условиям, которыми исчерпывается понятие святости. Условия же эти можно формулировать так: душевная любовь к миру, составляющему наш реальный мир, и духовное пребывание в том Царстве, которое - не от мира сего. Нет одного из этих условий, нет и святости. Есть или „касание миров иных” с роковой невозможностью проникновения в них (Блок!), или бесплодный морализм. Задача, выпавшая на долю братьев-жизнеописателей святого Франциска, определилась всем сказанным выше. Им надо было изобразить чистейший образ (тип) святости, „зерцало совершенства”, и не диво, что они использовали типический и не случайно же зафиксировавшийся, не праздной фантазией выдуманный, материал житийных символов. Им надо было изобразить этот „тип” святости, воплощенным в конкретной индивидуальности бесконечно близкого и дорогого им человека, запечатлеть „образ совершенства” в живом реальном и личном образе. Их задача была творческая задача. Отошедий к Богу их брат продолжал жить среди них и в них и должен был навеки жить в своем братстве, легенда как бы магически воскрешала его и обеспечивала ему земное бессмертие. Художественно „вымышленный” Франциск своей „легенды” реальнее эмпирически существовавшего в тесных границах пространства и времени сына купца Пьетро Бернардоне из Ассизи. Так, Наташа Ростова реальнее Т. А. Берс-Кузминской10 , с которой она „списана”.
Рождение новой индивидуальности в легенде и из легенды между 1226 и 1228 годами нашей эры - величайший факт истории Нового времени, нашего времени. Им оно, можно сказать, открывается и зачинается. Ни один из великих святых Средневековья не живет столь полной и подлинной жизнью в своей легенде, как Франциск в своей. Средневековый святой - медиум, посредник, или, точнее - безлично - „среда”, через которую верующий обращается с Богом. Более того: и Христос в своих Евангелиях не воплощается до степени живого человека. Осюда постоянные, от апокрифов до Ренана11 возобновляющиеся, безуспешные и обреченные на неуспех попытки восполнить Евангелия. Напротив, новейшим историкам францисканства не приходится выполнять никакой творческой работы над легендой о Франциске. Есть несколько превосходных биографий: Сабатье12 , Герье13 , Иергенсена14 , Честертона15 . Историки расходятся в своем понимании значения и характера отдельных данных внешней истории Ордена при жизни его основателя, но личность самого святого, в ее духовной сущности, одинаково ясна и понятна (в своем отражении в Легенде) и протестанту Сабатье, и обращенному святым Франциском в католичество Иергенсену.
Было бы упрощением действительности сводить все к случайности: близости по времени легенды к ее объекту. Решающую роль следует признать за самими особенностями святости Франциска. Святость, сказали мы, слагается из двух элементов. Индивидуальность же святого определяется характером их взаимоотношения. Говоря вообще, эти элементы находятся в состояния некоторой, если можно так выразиться, диалектической борьбы. Трагедия святости состоит в необходимости ни на миг не утрачивать соприкосновения с миром эмпирии, живя в то же время как бы на грани его и иного мира и духовно отделяясь от первого. Порвется связь с миром тварных вещей - и дух блуждает в мире ином, как в бесплодной пустыне. Обратится ли он к феноменальному миру - и вот последний уж обступает душу и заслоняет собой от нее божественный Предмет. Никто не смеет безнаказанно сказать себе при жизни: Allеs Vergängliche ist nur ein Gleichnis16 , ибо отвернуться от житейской реальности не значит разрешить загадку смысла жизни, а значит посягнуть на жизнь и на ее Источник. Но бесконечно трудно не сбиться в ее лесу с прямого пути (des rechtes Weges): nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, che la diritta via era smarrita17 ...
Такова трагическая основа обоих глубочайших созданий христианской поэзии: Фауста и Божественной комедии(конечно же, и Фауст - продукт христианской культуры, хотя бы Фауст и говорил о религии mit ein bißchen anderen Worten18 , нежели городской пастор).
Вся культура Средневековья может быть понята, как грандиозное и мучительное усилие охватить сознанием и выразить эту трагическую религиозную первопроблему. Отсюда страшный своей какой-то бесчеловечностью средневековыйаскетизм с его тяготением ко всему предметно-говорящему о Смерти, тлении, разложении; отсюда, с другой стороны, прекрасное формально, но как-то не сходящее нам в душу, отвлеченное, нарочито символическое изобразительное искусство, отсюда, средневековая наука, или то, что тогда принималось за науку: обозрение вещей-символов, вещей в их свойстве „представлять” рационалистически отвлекаемые „качества” Сущего.
Франциск первый разрешил трагедию, не жертвуя ничем из всего богатства жизни. После него ее будут разрешать и другие - в акте художественного или философского творчества. Но Франциск не был ни философом, ни художником по специальности. Он разрешил ее по-своему и так, как только один он мог это сделать: своей жизнью. „Блаженный и неуч” (idiota et illiteralis), хотевший быть „самим по себе” (юродивым) и „ниже всех” (et eramus idiotae et subditi omnibus19 , говорит он о себе и о своих братьях, вспоминая о начале их деятельности), он путем своего приближения ко Христу избрал самый неожиданный, но самый простой, и самый смиренный путь: нерассуждающего, буквальногопоследования Христу в Его земной жизни. Со свойственным итальянскому народу даром пластического воплощения идей, он разыгрывал, если позволительно так выразиться, притчи и заповеди блаженства. С благоговейным ужасом и восторгом современники догадывались, что во Франциске как бы воплотился Христос. Франциск открывает собой ряд великих „художников своей жизни”, которыми так богато Возрождение. „Типичный” средневековый святой обычно „восходит” к совершенству эклектическим путем, „уподобляясь”, в отношении отдельных „добродетелей”, тем из образцов, которые, каждый в отдельности, ту или иную из них наиболее совершенно выражали. Такой святой действовал по схоластическому методу расчленения и отвлечения. Франциск здесь вдвойне нов и самобытен: во-первых, его подвиг - единый и органический творческий акт; во-вторых, он осуществляет его совершенно самостоятельно, без „образцов” и без „посредников”. Между ним и Христом нет никого. Надо ли говорить, что эта изумительная смелость „идиота и неуча” не имеет ничего общего с ересью? Ведь Франциск не отделяет Христа от Его Церкви и в Церкви он - „нижайший” и „смиреннейший”, не желающий стать клириком, дабы не перестать быть в подчинении у каждого клирика, „наименьший из меньших братьев”. И он бесконечно далек от какого бы то ни было определения своего отношения к догме. Но бессознательно и безотчетно, как истинный гений, минуя непроходимые горы веками наслоившейся ученой традиции, он восходит непосредственно „ad fontes”20 . И в этом он опять-таки человек Возрождения, первый представитель Ренессанса.
Надо условиться. Наше утверждение остается пустой и ни к чему не ведущей игрой словами и внешними уподоблениями, если остаться при той концепции Ренессанса, при которой „Ренессанс” понимается как синоним „гуманизма”, а „гуманизм” как своего рода новый „филологический метод”; если мы не уразумеем, что и для гуманистов лозунг „ad fontes” (к первоисточникам) не был порождением простого педантизма антиквариев и буквоедов; что их ребяческие восторги по случаю открытия какой-нибудь новой рукописи связывались с благородным тяготением к угадываемому в этой рукописи целому новому, прекрасному, вечному в своей основе миру, с жаждой прикоснуться к нему, вступить с ним в реальные отношения и художественно воплотить его в себе.
Никак нельзя понять Возрождения, не уловивши особого настроения его. Оптимизм, вера в возрождение свойственны и Средневековью. Настанет день, и Мир очистится, освятится, „будут земля новая и небо новое”21 . Для эпохи же Возрождения характерно то, что мир переживается, как уже преображенный и просветленный. Доминанта настроения эпохи - радость, восторг, тот восторг, который наполнял душу Франциска и заставлял ее изливаться в импровизированных гимнах. Каким-то особым чувством радостного освобождения веет от рассказа брата Экклестона22„de adventu minorum in Angliam”23 . Так просто, так легко, так весело казалось идти, босыми и нищими, в далекую, суровую страну благовествовать новое благовествование мира и любви. „Открытие мира” было впервые сделано этими удивительными людьми, ставшими монахами в миру. Возникновение и невероятно быстрый рост двух нищенствующих Орденов24 были встречены современниками как великолепное, как-то особенно радостное и многообещающее чудо. После этого все казалось легким и возможным; не было ничего неосуществимого. Дерзание, убеждение в осуществимости своей „virtu” (непереводимое слово того времени, означающее вместе: талант, доблесть, влечение, внутренний импульс к самовыявлению) - отличительная черта Ренессанса. Человек изведал свои силы и осознал все богатства своих возможностей. Это было „открытие человека”. Ничего „языческого” по существу в этом не было. И ничего, конечно, общего „открытие мира и человека” не имело с вульгарным гедонизмом, с каким-либо „утверждением” своего „права” на жуирование, на пользование без укоров совести „благами” жизни. Наслаждение „миром” было совершенно бескорыстно. Это было незаинтересованное восхищение художника внезапно открывшимся ему материалом для воплощения своей „идеи”, самого себя. „Эстетизм” Ренессанса в его наивысших проявлениях (а „уровень” эпохи измеряется по ее вершинам) не был старческим холодным любованием „красотами”, а волей к творчеству, к реализации духа в материи. Красота, которой запечатлены все проявления этой эпохи, обуславливается именно этой свободой игры творческих сил, а вовсе не „следованием образцам древности”, как это казалось самим современникам и участникам движения: людям обыкновенно бывает трудно осмыслить собственное дело; кроме того, они так были поглощены разрешением подсобных, чисто технических задач, столь трудных по своей формальной природе, что они, эти задачи, и стали представляться им самым главным и существенным. Суть же дела до такой степени захватывала всего человека, что не вступала в сознание и оставалась поэтому неотмеченной.
Уже больше ста лет историческая мысль бьется над задачей „Возрождения”. Было бы чрезвычайно интересно написать полную историю этой умственной работы, обозреть все ее этапы, отмеченные именами Гете и Мишлe25 , Буркхардта26 и Ницше и стольких других, известных только специалистам. Это, вероятно, была бы самая удобная форма синтеза нашей современной культуры в ее органическом развитии. Около этой темы сталкиваются и обнаруживают себя мировоззрения и исповедания. „Возрождение” до такой степени еще живо и жизненно, что по отношению к нему трудно сохранять „объективность”. И оно так многокрасочно и многогранно, что нередко спорящие о нем впадают в недоразумения. Одни приемлют (или отвергают) его за его „античность”, его „язычество”, его „антихристианство”, „реабилитируют” его (иным это кажется не реабилитацией, а опорочением), выдвигая в нем христианско-католические элементы, отыскивая его корни в христианской культуре Средневековья. В гениально односторонний синтез Ницше-Буркхардта вносятся поправки и ограничения, разбивающие его. Восстановить синтез возможно, только отойдя в сторону от вопроса о содержании - „языческом” или „христианском” - отдельных явлений, падающих на эпоху Возрождения. Синтез по содержанию должен быть заменен синтезом по психологической форме. В этом отношении важна попытка новейшего итальянского исследователя О1giati27 (хотя она затемнена у него историко-философскими усилиями апологетико-католического характера) понять Возрождение, как раскрытие одной - не идеи, но психической тенденции, а именно тенденции к „конкретности”, стремления охватить жизнь во всей ее полноте. Формула „открытие мира и человека” этим не устраняется, но она разгружается от того антихристианского смысла, который вкладывал в нее Буркхардт, отождествлявший христианство с аскетизмом и „мироотрицанием”.
Со святым Франциском Возрождение связывается не только в нашем построении. Эта связь исторически реальна. Явления, относимые бесспорно к „Возрождению”, охватываемые именно этим термином, если проследить их генезис, оказываются имеющими свои корни в почве, взрыхленной ранним францисканством, соприкасаются с последним пространственно и временно. Первый образчик живописи „новой манеры”, сменивший собой „грубую греческую манеру” - „грубую”, как казалось это Вазари28 , - фрески Джотто29 в храме, выстроенном на родине святого, в Ассизи, его учеником, первым „генералом” его Ордена, братом Илией Кортонским30 . Этот последний - живое звено, соединяющее францисканство с Ренессансом. Широко образованный человек, искусный военный инженер на службе Фридриха II Гогенштауфена31 , первого представителя новой государственности, в то же время личный друг святого, властно и твердо руководящий его Орденом, которому он предан беззаветно и до конца жизни, этот загадочный для рядовых братьев и ненавидимый ими человек выступает перед нами в францисканской традиции с чертами типичного „homo universalis”, „virtuoso” Возрождения, чертами, каким-то причудливым образом сочетающимися в нем с иными, специфически францисканскими. Илия Кортонский не одинок. Францисканство быстро стало лоном, где формируется новый социологический тип, носящий на себе признаки, которые вскоре повторяются уже в характерном „человеке Ренессанса”. Предписываемые Правилом бездомность, отсутствие оседлости, обязанность постоянно переходить с места на место, аскеза в миру, на людях, общение с ними на всяких поприщах, способствует выработке особого типа минорита, добровольца-дипломата, публициста, космополитического авантюриста. „Открытие мира”, в смысле расширения границ известной тогда на Западе „вселенной”, есть в значительной мере дело францисканских миссионеров. Ими возбуждается „восточный вопрос” и им принадлежат первые обдуманные проекты его разрешения. Минорит Рамон Лулль32 настаивает на необходимости учреждения факультетов восточных языков в европейских университетах и добивается этого. И в старом мире они ориентируются по-новому. История первого века Ордена нам известна так, как никакая другая история того времени, и это благодаря францисканской современной, уже вполнемемуарной в нашем смысле слова, литературе, хроникам Экклестона, Джордано Джано33 и в особенности очаровательной, богатейшей деталями, „petits faits”34 , глубоко личной „хронике” брата Салимбене Пармского35 , поражающего своим совершенно новым уменьем видеть и передавать виденное во всей полноте его конкретности.
Мы видим: вполне реальные, а не „мнимые”, „построяемые сознанием” нити протягиваются от „Возрождения” к Франциску Ассизскому с его даром постижения „конкретности”. Но надо пойти дальше и глубже. Надо постараться возможно яснее понять, что такое было это чувство конкретности, которым был наделен святой, это чувство, служившее источником того восторженного умиления, того поэтического восхищения, в которое приводило его созерцание тварного мира, и которое нашло себе исход в его знаменитом Гимне брату Солнцу36 . Это чувство без сомнения было одним из элементов религиозности святого, уже в силу того одного, что Франциск был полон Богом, и что поэтому все его переживания так или иначе были переживаниями религиозного свойства. Но отсюда не следует, чтобы религия личного Бога каким бы то ни было образом переходила у св. Франциска в религию Природы. Честертон, предостерегающий против такого понимания, весьма верно замечает, что у Франциска нет и следов пантеизма, и что „Природа” для него не существует: он знает только отдельные вещи: брата Солнце, сестру Воду, брата Огонь, брата Волка, сестер Птичек. Его восприятие мира таково же, как и его восприятие Христа, т.е. совершенно конкретно. И нельзя также сказать, чтобы его восприятие тварей в Боге было „символическим”, чтобы твари с их „качествами” были для него действительно „ступенями лестницы”, по коей он восходил к Богу, как это дает понять его второй официальный биограф, великий францисканский мистик св. Бонавентура37 . „Серафический доктор” вряд ли не приписал здесь св. Франциску своего собственного мировосприятия. Вещи для Франциска не символы атрибутов Божьих, отраженных в их свойствах и качествах (для такого понимания необходимо отвлечение от вещей их свойств, необходим анализ, на что Франциск совершенно не способен), а детища Божьи, создания Его. Мир не был для него „путем” к Богу, как это представлялось св. Бонавентуре: к Богу он пришелнепосредственно. Скорее, к миру пришел он от Бога и через посредство Бога. „Когда я был молод, очень мне было неприятно видеть прокаженных”, - рассказывает он в своем Завещании. (Цитирую, как помню, не имея под рукой текста). Но он пересилил себя, он заставил себя любить их во Христе, и стал ходить за прокаженными, есть вместе с ними и лобызать их язвы.
Гений, по своей формально-психологической природе по преимуществу художественный, не аналитический, а творческий, что и сказалось в изобретенной им аскезе буквального последования Христу, понимаемому в Его живой конкретности, св. Франциск, если бы он стал философствовать, формулировал бы отношение Бога к миру так, как это сделал первый из великих францисканских философов, тот же св. Бонавентура38 : для св. Бонавентуры (здесь он предвосхитил Шеллинга) мир - творение Божье в том смысле, что Бог выразил Себя в мире. Бог представляется св. Бонавентуре художником, творчески воспроизводящим себя в своем создании, воплощающим в нем свою „идею”. Мы видим: францисканство и „Возрождение” в этом пункте оказываются едва ли не синонимами.
Францисканская мысль движется в этом направлении дальше. С половины ХVІІІ в. францисканцы и доминиканцы39завоевывают себе прочное положение в центрах тогдашнего просвещения: в Парижском и Оксфордском университетах. У францисканцев слагается собственная философская школа, как и у доминиканцев своя. У доминиканцев - „реализм” их величайшего мыслителя св. Фомы Аквината40 прямое продолжение средневекового мировоззрения. У францисканцев - ,,номинализм”. „Ангелу Школ”, доминиканцу Фоме, противостоят францисканские авторитеты Дунс Скот41 и Оккам42 , „номиналисты”. Из чисто формально-логического направления, чем он был в Средние века, номинализм под пером францисканцев превращается в настоящее мировоззрение, базирующееся на францисканском конкретном жизнеощущении, на францисканском эстетизме. Для св. Франциска и св. Бонавентуры Бог - творец не „идей”, „типов”, „образцов” вещей, но самих вещей. Вещи сами реальны, и только они реальны. В номинализме францисканское мировоззрение достигает высшей точки своего интеллектуального выражения. Если мы примем во внимание, что номинализм есть отражение в логике и в метафизике того самого мировоззрения, которое мы иначе обозначаем, какиндивидуализм и которое мы привыкли считать сущностью Ренессанса, как определенного культурного момента, то мы будем принуждены сделать заключение, что францисканство с его философией есть во всяком случае неотъемлемая, органическая часть культуры Возрождения. Нельзя ли сделать еще один шаг? Совсем недавно один из последователей покойного Макса Вебера43 высказал мысль, что номинализм и был тем зерном, из которого развилась культура Возрождения, новая европейская культура.
В изобразительном искусстве, для которого характерны теперь конкретизация, отход от абстрактности; в поэзии (новаялирика, личная, „автобиографическая”); в нравоописательской и бытоописательской прозе; в естествознании, обратившемся, начиная с Рожера Бэкона44 (францисканец!) к изучению явлений „в себе”; в политике, где в новое время появляется новый фактор - личность, творящая свою волю, по-своему устраивающая общество и государство; в историографии, отражающей эту новую политику; в религии Лютера45 и Кальвина46 , заменяющих идею Бога верховного „Принципа” идеей Бога, как живой индивидуальной силы, вводящих верующих в непосредственные, личные отношения к Нему; в естественном праве, субъектами которого являются уже не абстрактные средневековые „realia” - Государство, Корпорации, Фамилии, но единичные личности, всюду веет один дух, дух „номинализма”. Значит ли это, что номинализм и был причиной всех этих культурных перерождений? Автор упомянутой работы, по-видимому, так и думает. Его статья говорит о значении номинализма для современной культуры. Но здесь, очевидно, чисто теоретическая ошибка. Почему именно номинализм есть „причина” всего остального? Потому ли, что он „первее”? Но в каком смысле первее? Явно, что не во временном, раз речь идет о номинализме, как цельной философской системе. Он „первее” только в нашем, нами построяемом синтезе культуры Ренессанса и Просвещения, в историографии, а не в прожитой истории, „первее” в том смысле, что он есть самое общее выражение тех разнообразных форм „индивидуализма”, которые обнаруживаются во всех перечисленных нами сферах культуры; говоря точнее, что он есть формально-логически самое общее понятие, если не слово. Никак нельзя сказать: язык Рабле есть живопись Мазаччо47 ; нельзя первое „включить” во второе. Но в этих и во всех остальных проявлениях новой культуры обнаруживается то общее, что они могут служить как бы примерами, освещающими положение: только единичные вещи действительно существуют. И в этом смысле и можно, пожалуй, и язык Рабле, и манеру Мазаччо, и политические приемы „Князя”48 , и еще многое другое „включить” в номинализм. Наш ум так рационалистически вышколен, что для нас естественно начинать с общих формулировок и затем спускаться к частностям. Понять что-либо значит для нас найти самую общую форму описания. А затем логический порядок изложения уже начинает нам казаться тождественным самому порядку явлений (своеобразное приложение рационалистического принципа: ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum49), и в данном примере явления культуры Ренессанса оказываются „вытекающими” из номинализма, как из общей „идеи”. Чистый средневековый „реализм”!
Между этим „реализмом”, с его „priora” и „posteriora”50 , крайним „номинализмом”, распыляющим реальность, растаскивающим по ниточкам живую ткань истории, лежит третья концепция, объемлющая жизнь, как целое во всем многообразии ее конкретных проявлений, ищущая в них общий смысл и единство, но отказывающаяся от искусственного и совершенно бесплодного, ни на шаг не приближающего нас к их видению, рассаживания их в ряды клеточек с надписями: „причины”, „следствия”, „надстройка”, „субструктура” или „базис”. Есть общий „дух” Культуры (или его нет, и тогда культура данного момента и характеризуется его отсутствием, вернее, тогда нет и Культуры), но не где-то вне ее, над или под ней, скажем, на Небесах или „в производственных отношениях”, но именно и только в ее конкретных проявлениях, в вещах и в людях. И никаких других причинно-следственных отношений в реальной истории не существует, кроме отношений между людьми и вещами: люди - „причины”, вещи - „следствия”. Поэтому увидеть живых людей, усмотреть их отношение к великим историческим движениям, составляет, по крайней мере должно составлять, главную цель работы историка, если он только хочет действительно понять Культуру в ней самой, в ее жизни, в ее развитии. С этой точки зрения для нас далеко не безразлично то, что авторы трех величайших созданий новой европейской литературы: Божественной комедии, Пантагрюэля, Дон Кихота были францисканцами.
Данте, в молодости „препоясавшийся вервием”, т.е. вступивший в „Третий чин” миноритов („чин” братьев-мирян), создает мистерию „паломничества духа к Богу” (itinerarium mentis ad Deum - мистический трактат св. Бонавентуры) в найденной им новой форме лирического эпоса51 , в котором чудесно сведены воедино элементы чисто личного характера с грандиозными концепциями фомистской метафизики и всемирной истории, представленной бесконечной вереницей уже строго индивидуализированных портретов. Сервантес, полжизни проведший в борьбе за торжество Креста над Полумесяцем в той самой „Варварии”, куда ходил было проповедывать св. Франциск, где в борьбе за то же самое дело скончался святой король Людовик IX52 (тоже „терциарий”, брат „Третьего чина”); Сервантес, прославивший Госпожу Бедность, с которой обручился Франциск, в романе о добровольном бедняке, последнем странствующем рыцаре, прославивший Смирение в последней сцене романа, где дон Кихот, достигнув высшей точки просветления, становится вновь просто Алонсо Добрым (Alonco el Bueno), сам под старость вступает в Третий чин Францисканского Ордена.
Случай Рабле сложнее. На первый взгляд, в авторе злой сатиры, не пощадившей и св. Престола (но и Данте был к нему беспощаден), скорее угадывается „материалист”-естествоиспытатель (чем он и был), доктор медицинского факультета в Монпелье53 , где впоследствии „докторанты” на диспутах будут возлагать на себя хранящуюся здесь его докторскую тогу, нежели богослов и приходский священник, и член Францисканского Ордена (чем он также был). Особенно смущают в его книге ее „кощунства”, т.е. более или менее прозрачные и иногда весьма неумеренные пародирования евангельских (и библейских) форм и оборотов. Еще недавно делались попытки „расшифровать” Гаргантюа и Пантагрюэля, представив это произведение в виде сплошной пародии уже не на литературную форму священных книг, но на само христианство. Эти попытки не устояли перед критикой. Критика сделала больше. В своих „кощунствах” и в своем сквернословии Рабле, это доказано, не стоит особняком. Как раз это у него - монастырское, результатпрофессиональной привычки обращаться запросто с вещами, с которыми, постоянно приходится иметь дело. От своего Ордена он за свои книги никаких неприятностей не имел. Католичество было гораздо терпимее и шире, чем это принято представлять себе54 . Нет никаких данных для предположения, что автор книги, представляющей собой, быть может, самое грандиозное усилие индивидуализировать язык, так чтобы иметь возможность буквально всякую вещь назвать ее собственным именем (отсюда - бесконечные словарные упражнения, отсюда - в значительной степени, может быть, и сквернословие у него), был плохим францисканцем.
* * *
Раз ставится вопрос о происхождении европейской культуры Нового времени или, что то же, об ее сущности, то неминуемо возникает и вопрос о пространственных границах „Возрождения”. Ограничивается ли „Возрождение” католическо-романским миром, или же выходит за его пределы? Принято противополагать Лютера и Кальвина и их дело „Возрождению”. Правда, Лютер в номиналистической философии францисканца Оккама нашел теоретическую опору для своего религиозного индивидуализма. И для Лютера, и [для] Кальвина Бог - личность, а не „Принцип”, не „верховное понятие”. Но эта личность наделена совсем особой индивидуальностью. В особенности у Кальвина. Его Бог - деспот и злой деспот. Его отношение к миру и людям выражено у Кальвина в кошмарной теории предопределения. Макс Вебер гениально показал, как эта безумная доктрина, которая, казалось бы, должна была повергнуть в безысходное отчаяние, в полную прострацию всех, уверовавших в нее, на деле оказала могучее тоническое влияние на души; как, преимущественно в англосаксонских странах, учение Кальвина о признаках избранничества создало психологическую почву для буйного расцвета капиталистической цивилизации: каждый должен заниматься своим делом в том „состоянии”, в какое он поставлен Богом; в этом заключается „подвижничество в миру”; успех в любой форме (и прежде всего в самой наглядной и осязательной - наживы) - ручательство в Божьем благословении, в принадлежности счастливца к сонму „предъизбранных”. Поэтому невезение, бедность суть „признаки отверженности”, признак извечно, Божьим усмотрением „извращенной” и парализованной, бессильной на „добро” воли. Социальные следствия этих представлений ясны сами собой55 .
Гениальное построение М. Вебера односторонне. Протестантская культура англосаксонских стран отнюдь не чистокальвинистская культура. Чем глубже идет исследование, тем несомненнее выясняется огромная воспитательная роль другой, протестантской, но антикальвинистической религиозной струи, оптимистической, любвеобильной, широкотерпимой, отрицающей „предопределение”, утверждающей „святость каждой совести”. Инициаторы религиозных „возрождений”, баптизма, квакерства и методизма: Джордж Фокс56 , Роджер Уильямс57 , Уэсли58 , по неистощимой силе и красоте духа, по бесконечно благотворному их действию на людей, - несомненные святые, не канонизованные только потому, что протестантство не знает культа святых. С этими религиозно-нравственными „возрождениями”, связаны в англосаксонской общественно-политической жизни такие несомненные явления „Возрождения”, в самом благородном и возвышенном смысле этого слова, как движение „левеллеров”59 , как английский радикализм, как аболиционизм60 в Америке61 . И достаточно хоть немного ознакомиться с биографиями Джона Фокса или Уэсли, чтобы ясно увидеть, что в этих „подвижниках в миру” возродился дух ассизского Poverello62 ...
* * *
Культура Новой Европы - это культура Возрождения. А Возрождение в „свернутом виде” уже дано в личности св. Франциска Ассизского. „Солнце”, взошедшее над холмами „Умбрии”63 более 700 лет тому назад, долго озаряло мир сквозь призмы, преломлявшие его лучи, каждая выделяя какую-либо одну из красок его спектра, призмы, которых имена: Данте, Микеланджело, Гете, Кант ... Ныне источник света погас. Погаc в том смысле, что его отблесков мы более не видим. Упадок европейской культуры, ее определение, ее близкая смерть - это теперь модная и едва ли уж не избитая тема. То законное сомнение, которое охватывает всегда, когда слышишь что-либо, о чем „принято” говорить, вызывает на мысль: вероятно, „сумерки Европы”64 - это не так уж страшно, раз об этом твердят все, кому не лень. Скорее всего, это просто вздор. Тем более, что об „одряхлении Мира” периодически толкуют с тех cамых, кажется, пор, как свет стоит. И не предсказывал ли на самой заре Возрождения современник св. Франциска, аббат Иоахим Флорский65 - il calavrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato66 - близкое наступление Царства Антихриста и конец света?
Однако, в данном случае „общее мнение” вряд ли неправо. Умерла ли европейская культура, та культура, которая для нас является культурой вообще, окончательно и навсегда, или еще способна возродиться, нам знать не дано. „Дряхлость”, „старческое бессилие” культуры, ее „гниение” - это мало что говорящие и способные только ввести в недоразумения натуралистические метафоры. Но то, что культура наша в настоящее время переживает кризис, что сейчас жизни в ней нет, это несомненный факт, и у нас есть в подтверждение его объективный признак. Когда культурные ценности обратились в „музейные вещи”, когда они перестают быть возбудителями творческой энерегии, это значит, что от „культуры” остается только ее материальный состав, что дух жизни отлетел от нее. Это последнее положение есть простое аналитическое суждение и подлежит не доказательству, а усмотрению. С 1200 года до наших дней не прерывалась цепь героев и гениев, пред которыми преклонялись люди, за которыми шли, у которых учились. Одно сознание, что существует такой человек, делало жизнь полной смысла и содержания. Толстой был последним из этих светочей ... В них, в каждом по-иному, по-своему, с необходимой ограниченностью и односторонностьювоплощалась и сосредоточивалась наша культура, и именно благодаря этой ограниченности каждого культурного мига, в каждый из них культура сохраняла свою цельность. Ибо только индивидуальное живет, и культура, пока она живет, есть individuum. Individuum же ограничен в силу определения, ибо он есть нечто единственное и неповторяемое, стало быть, чем-то отличающееся от всех прочих индивидуальностей, обладающее чем-то, чего нет у них, и лишенное чего-то, чем обладают они. Для нашего же времени характерны как раз наоборот: отсутствие индивидуализирующих ее, ограничивающих ее „властителей дум”, эклектизм, готовность все пожрать без разбору, какая-то бесстыжая „отзывчивость” на любые „зовы”, какое-то старческое искание все новых и новых „возбудителей” („Восток”, „новый”, именно и непременно „новый”, „религиозный опыт”, или же просто хотя бы „исконные”, но давно забытые, „традиции” и т[ому] под[обное]), глотание самых разнообразных кусков без тени ассимиляции. И быть может, лучшим доказательством страшной серьезности и даже опасности положения служит как раз то, что от всех этих экспериментов не шалеют, не сходят с ума, но пассивно ждут какого-то „возрождения”...
Между тем, так возрождения не происходят. Возрождение начинается с самоограничения и самососредоточения. И это не имеет ничего общего с теми потугами на национальное или расово-культурное „самоопределение” и „выявление своего лица”, какие мы наблюдаем в нынешнее время, напр[имер], в нашем „евразийстве” или в немецком „расизме” и тому подобных течениях. Ибо на самом-то деле здесь не видно сколько-нибудь упорного преследования однойопределенной цели, а скорее случайное и наугад копание в подвалах истории, в надежде отыскать там что-нибудь „новенькое”, еще не испробованное. Вот и открыли ... Чингиз-Хана ...
Кроме того, возрождения не совершаются по заказу. О подлинном Возрождении ничего не знали в тот момент, когда оно началось. Св. Франциск не думал ни о каком „возрождении” в тот день, когда он навеки обручился с Госпожей Бедностью, ни Лютер о „реформации”, когда он ломал себе голову над вопросом о спасении души доктора Мартина. Франциск-то уж во всяком случае не искал ничего нового. Предмет, к которому он потянулся всей своей душой, не был, вообще, ни старым, ни новым, по той причине, что это был вечный предмет - Христос. И никакого нового пути к Нему он не искал и даже не посмел бы подумать об этом. Он, повторяю, просто хотел, чтобы это был путь самый убогий, самый темный, единственный, которого он в его глазах ничтожнейший и недостойнейший из людей, был бы достоин. Он не смел сопричаститься Славы Христовой и потому дерзнул сопричаститься Его уничижению, Его нищете и бесприютности. Он самого Христа упрощал для себя и как-то „сокращал”. Последовательно суживая поле своих созерцаний, он в конце концов зафиксировал свой взор на одном лишь предмете: на язвах Христовых. И вот Серафим предстал ему и пронзил пятью лучами его тело, и на его ладонях, на ступнях и на боку зажглись пять кровоточащих ран67 . Больше ничего не было, и это было начало Возрождения.
* * *
Проблема „Возрождения” занимает мысль уже давно, уже со времен Античности. И до сих пор она ставилась всегда как проблема историческая. Она связывается с особой концепцией общего исторического процесса, его цикличности. Вариантом этой концепции является другая: теория миграции культуры, ее перехода от одних носителей к другим68 . Эти две теории, разумеется, не противоречат друг другу. У Шпенглера обе использованы до конца в остроумной и глубокомысленной комбинации. Эти теории представляют собой едва ли не высшее достижение историко-философской мысли, и трудно учесть все их - бесконечно плодотворное - значение для собственно исторической науки. Достаточно напомнить несколько имен: Вико69 , Монтескье, Фергюсон70 , Гердер71 , Гегель, романтики и Шеллинг, Эдуард Мейер72, Константин Леонтьев73 , Шпенглер ... Нетрудно указать посторонние исторической науке, „метаисторические” источники этих представлений, наивные „натуралистические” предрассудки - переживания Античности, - коренящиеся в их основе. Однако, одними такими указаниями и справками их опровергнуть нельзя. Нет никакой „закономерности” в жизни культур, и прежде чем говорить о „закономерности”, надо условиться о точном смысле этого слова „закон”: известно же, что как раз у тех, кто особенно настаивает на „законах” истории, на этот счет господствует особенная путаница: Огюст Конт74 , Карл Маркс75 . И все же культурные падения и возрождения культур несомненный исторический факт, и отказываться отсоциально-психологической обработки его значит обратить историческую науку в беспредметное „упражнение”, убить ее как науку. Проделанный Шпенглером опыт морфологии „культуры” и „цивилизации” имеет для исторической науки колоссальное значение. Но с занятиями этого рода связана и одна большая опасность, опасность некоторых почти неизбежно возникающих ложных представлений. „Смерть” культуры понимается буквально. Оттого, что культурные ценности нам уже ничего более не говорят, они сами кажутся мертвым грузом, от которого надо освободиться, чтобы „воспарить” (настроение Гершензона в Переписке из двух углов76 ). Залогом „возрождения” начинает казаться разрушение, уничтожение ценностей; условием его - „вторичное варварство” („именины сердца”, справляемые евразийцами по случаю истребления русской интеллигенции большевиками, что изображается чем-то вроде вороновской операции) ...
Если это так, дело обстоит безнадежно. Уже совершенно очевидно, что устроить пустое место даже из России, с ее весьма еще слабо организованной и плохо отстоявшейся цивилизацией, вещь невозможная. О Европе и говорить нечего. Если для „возрождения” необходимо, чтобы на Place de l’Opéra появились пасущиеся свиньи, „возрождения” не будет. Предполагать возможность какого-то „ricorso”77 от европейского капитализма к „феодализму” или еще далее к „аграрному коммунизму” германцев Цезаря и Тацита (по схеме Вико) нет никаких оснований78 . Напомню только одно: историческое Возрождение (Кватроченто и Чинквеченто) явилось вовсе не после „периода варварства”79 , а выросло на почве уже очень высокой, очень утонченной, очень „ученой” и сложной культуры.
Прекрасно говорит Spranger в статье, упомянутой выше: „ценности” сами по себе не стареют. Секрет „возрождения” - в умении найти не новое, но вечное в любой ценности. Но именно это-то и надо уметь. Иначе и Иисус Христос окажется „первым санкюлотом” или „еще не вполне сознательным пролетарием” (Каутский80 ), и из Нагорной проповеди можно будет вычитать апологию „государственного принуждения” при помощи кнута и виселицы (и вычитывают)...
Обилие ценностей помехой служить не может. Надо понять, что „круговорот истории” вовсе не сводится к периодическим возвратам к разбитому корыту. Ценности постоянно, в процессе движения жизни во времени, накапливаются. У нас больше ценностей, чем их было у св. Франциска, у Геродота или у Гомера. И никакой беды в этом нет. От большинства этих ценностей мы освободиться не можем, и этого нам и не нужно. Эклектизм („историзм”) обусловливается не объективным влиянием, не „обстановкой”: он в нас самих. При величайшей пестроте, при величайшем многообразии „ценностей”, возможна целостная культура, если только есть единство в душе. Тогда ценности сами собой слагаются в гармоническое целое, сливаются в одну ценность. И это есть возрождение культуры. Оно состоит, стало быть, в „отнесении” всех ценностей к некоторой самой общей, верховной ценности, к тому, что выше нас, т.е. выше человека, как такового, в усмотрении наличия этого высшего; и в этом и состоит то творческое самоограничение, о котором я говорил. Исходная точка „возрождения” есть тяготение к Богу. И степенью напряженности этого стремления выйти за пределы „человеческого, слишком человеческого” определяется значительность и внутренняя ценность культуры. Возможны срывы на этих путях, срывы в пропасть демонизма и „сверхчеловечества”, но это исключительный случай,безумие Ницше и Кириллова81 . Возможно и необходимо критическое отношение к идее религиозного самодовления, изолированной, оторвавшейся от общения с Церковью личности, к идее абсолютного верховенства человеческого Разума, претендующего на безусловную верность своего „метода”, исходной точкой которого является сомнение „de omnibus”82 ; к идее абсолютного значения, естественного права; и все же, глубоко ложно, формально, бездушно то понимание, согласно которому Лютер, Декарт, Руссо являются виновниками нынешнего крушения культуры83 . „Виновники” - те, которые не поняли, что подлинной целью трех „реформаторов” оставался Бог84 , те, для которых „путь” заменил собой „цель”. „Сорвалась” ведь в наши дни не только реформация, „сорвался” и католицизм. Убывание духа религиозного горения, духа творчества, духа дерзания, это такая же тайна, как и внезапное появление творческих гениев. Если продумать проблему до конца, то окажется, что всякое изыскание „причин” взлетов и падений культуры сводится к морфологическому описанию признаков этих процессов. Признаком гибели культуры является то, чтовсякая идея начинает пониматься по-смердяковски. „Причиной” же этого является сам Смердяков85 , подобно тому, как „причиной” Возрождения был святой Франциск Ассизский.