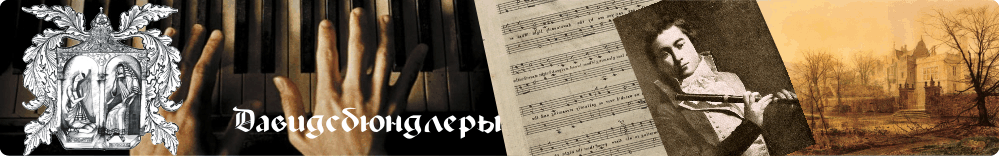Воспоминания о Софроницком
А. Золотов
СОФРОНИЦКИЙ ВЫСОТОЮ В ВЕК
(Слово о Софроницком на собрании по случаю 100-летия
со дня рождения Владимира Владимировича Софроницкого
в музее А.Н. Скрябина 27 октября 2001 года)
Наше сегодняшнее собрание должно было непременно пройти в этих стенах: этот дом был очень дорог Владимиру Владимировичу Софроницкому, как дорог и всем нам.
Я благодарен Музею А.Н. Скрябина за приглашение и возможность участвовать в этом собрании. Для меня это честь.
Жизнь Софроницкого соприкоснулась с нашей жизнью через его искусство, через его музыку, через его облик. Вспоминая, как звучал рояль Софроницкого, заново переживаю то необыкновенное впечатление, что на всю жизнь сохранилось от созерцания этого художника -
в Малом или Большом зале Московской консерватории, или в Доме ученых, или здесь в музее.
Мы все сознаем, какой счастливой, особенной минутой исторической жизни Россия связала себя и нас с национальным художником мирового звучания - Софроницким!
В этом году как-то особенно ясно стало, что искусство Софроницкого «собирает» множество
музыкантов и множество людей, сопричастных к музыке. Столетие со дня рождения и дата
кончины пианиста (40 лет в августе!) соединились в единую Жизнь великого артиста. Множество концертов и собраний было обращено к имени Софроницкого. Люди испытывали глубинную потребность обратиться к имени Софроницкого, приобщить себя к тому подлинному, что в искусстве было, есть и будет.
Софроницкий - уникальное явление. И это первое слово, которое приходит, когда пытаешься
характеризовать это явление. Уникальное, исключительное, неповторимое, то есть - чудо.
И второе слово-понятие, которое я хотел бы использовать и хотел бы, чтобы оно прозвучало рядом со словом-понятием «уникальное». Это - «естественный». Софроницкий - на редкость, на удивление, тоже в размахе чуда, естественное явление русского искусства. Воссоединение этих понятий - естественности и уникальности - может показаться странным. Как правило, никальное тянет за собой представление об исключительном, а исключительное понимается как из ряда вон выходящее. Но именно тогда искусство становится недосягаемо подлинным, когда оно выходит за пределы искусства, выходит в просторы «настоящего» и бесконечные пределы жизни, и при этом остается искусством, то есть организует жизнь по своему уникальному закону.
Софроницкий породнил в себе две стихии, которые (в разных проявлениях) были представлены иными, выдающимися и даже великимии, артистами.
Софроницкий породнил в себе искусство и жизнь, и здесь мы касаемся проблемы великой сложности и трагизма. Да, искусство и жизнь - не одно. Но они могут обрести единство во мне, в единстве моей личности.
Но не каждой личности в искусстве, даже большой, значительной, это удаётся. Соединение в единстве личности искусства и жизни как категории Высшей, и при этом формирование жизненного пространства именно под влиянием духа музыки, духа искусства - такое удавалось совсем избранным, ибо такое не может само по себе удасться, «получиться». Такое дается от Бога, от самого существа человеческого, окрылённого Господом Богом. Софроницкому это было дано.
Еще одно понятие связано с Софроницким. Это представление о мировом масштабе русского искусства.
Когда говорят «мировое» и «русское» искусство, это «и», оно всегда какое-то слабенькое, упрощающее реальную картину, реальную ситуацию.
Русское искусство и есть - мировое искусство. Это его неотъемлемое состояние, его нельзя оттуда химически «выделить».
Но под мировым уровнем мы часто подразумеваем европейский характер, европейство.
И в Софроницком мировое присутствие европейского духа, европейского искусства, европейской мысли всегда ощущалось, как в подлинном русском художнике, который открыт не просто всему на свете, но открыт тому, что искусство способно обогатить и хотя бы чуть-чуть подкрепить силы людей живущих.
Я думаю, что в Софроницком, его образе, мы встретились с каким-то исключительным, естественным и правдивым проявлением русского национального духа в его божественном измерении и в его всемирном масштабе. То есть речь идет об истинной и объективной Красоте.
Позволю себе привести несколько строк из «Иконостаса» Павла Флоренского, который, на мой взгляд, замечательно определил, что есть истинный художник:
«Истинный художник хочет не своего во что бы то ни стало, а прекрасного, объективно прекрасного, то есть художественно воплощенной истины вещей».
Художественно воплощенная истина вещей всегда присутствовала в искусстве Софроницкого и составляла его исчерпывающую сущность.
Объективное и субъективное в искусстве так органично сочеталось в личности Софроницкого, что он явил нам образ русского художника как идеального существа, и в то же время как могучего творца со своей твердо определившейся эстетикой, со своими правилами жизни, со своей исключительной независимостью.
Владимир Владимирович Софроницкий являет нам пример на удивление достойной жизни и удивительной, редкостной независимости художника, который никогда не склонил головы ни перед какими жизненными трудностями, никогда и никак не противопоставил себя обществу и, тем более, людям, народу.
Он был одинокой фигурой в искусстве своего времени, и, как мы все больше сознаём, в русской музыке, в исполнительском искусстве.
Ещё одно неоценимое свойство искусства Владимира Владимировича - вдохновенного, естественного и определенного - его искренность, искренность и еще раз искренность. Эта трижды повторенная искренность и есть пронизывающая и исчерпывающая характеристика Владимира Владимировича Софроницкого.
Какая странная и удивительная судьба! Какая странная и ясная жизнь!
Даже когда вы приходите на Новодевичье кладбище, вы знаете, где могила Чехова, где могила Гоголя. Но довольно трудно найти могилу Софроницкого. Как-то всё у него сложилось негромко -жизнь всё время его сохраняла, немного «упрятывала», скрывала. Нужно душевное напряжение, чтобы тропу к Софроницкому не потерять.
В современном искусстве не так много людей (в разных поколениях), которые были бы способны продолжить традицию Софроницкого, могли бы приблизиться к художественному смыслу Жизни. Но оттого лишь возрастает значение удивительной личности Софроницкого. Его музыка как бы реет над нами. И только подняв голову к небесам, можно расслышать, и может быть ощутить присутствие этого Художника в нашей жизни.
Он не один из многих, не один из первых. Он просто один. Но к нему единственному мы прислушиваемся, ибо он являет нам подлинное вдохновение. А вдохновенный, как говорил когда-то немецкий поэт-романтик Новалис, во всех своих проявлениях выражает высшую жизнь.
Философское вдохновение Софроницкого ни на секунду не претендовало на то, чтобы научить нас жить. Просто рядом с нами жил и творил удивительный художник, и рядом с ним мы, если было дано расслышать его, становились чуть-чуть другими. Мы ощущали в себе потребность в том искусстве, в той жизни и в том идеале, которого он сам был преисполнен от первой и до последней ноты своей жизни.
Той абсолютной красоты, которую ощутил Софроницкий в русской жизни и которую он собою воплотил, нам всегда будет не хватать. Но эта абсолютная красота им уже в нас поселена, она в нас живёт. И она всегда будет нести в себе нам новую тайну.
Эта тайна будет обещать нам прикосновение к подлинной красоте, ибо Софроницкий - это русское искусство не только XX века, но русское искусство как таковое в его самом изысканном, самом тонком и самом естественном проявлении.
Прикосновение Софроницкого к роялю рождало чрезвычайную атмосферу недосягаемой правды. И сегодня, обращаясь к нему, мы
также способны ощутить в себе исключительную возможность прикосновения к этой недосягаемой правде.
Софроницкий был из тех величайших художников, которые не стремились создать шедевр в сегодняшний вечер, но в которых жил Закон, и они этот Закон воплощали, помимо своей воли, будучи ему сами подчинены естественно и согласно своему нраву, своему таланту.
Общение с образом Софроницкого и с его музыкой - это выращивание в самих себе призвания. А уж призвание может многое сотворить с нами.
Комментарий
Андрей Андреевич Золотое — профессор. Заслуженный деятель искусств России, Лауреат Государственной премии России и Премии Москвы, академик Международной академии творчества и Национальной академии кинематографических искусств и наук, член Союза композиторов и Союза писателей России.
И.Никонович
В.В. СОФРОНИЦКИЙ ИГРАЕТ В МУЗЕЕ А.Н. СКРЯБИНА
Софроницкий! Мало кто из артистов в своё время вызывал столь восторженное, можно сказать, фанатическое преклонение. Его исключительность неожиданно раздвигала рамки самого понятия «фортепианное исполнительство». Софроницкий был по существу не столько интерпретатором, сколько самобытным художником-творцом сродни самым выдающимся композиторам, поэтам, живописцам. Его внутренний мир, его вдохновение излучали такую волшебную красоту, являли такое богатство поэтического мироощущения, были столь остро индивидуальны в претворении своей, глубоко личной правды, что иллюзия полной самостоятельности, а не воспроизведения лишь ранее созданного, неизменно сопутствовало ему во всей его деятельности. И не даром для поколений российской интеллигенции он являлся таким же поэтическим кумиром и символом, каким до него был Александр Блок. С Блоком его роднила смятённо-тревожная, трагическая сила вдохновения. Как и Блока, его отличали предельная чистота, внутренняя незащищенность и, вместе с тем, врожденный аристократизм во всем, до мелочей. Обоих объединяло и постоянное, беспощадное сжигание самих себя, совершенная неспособность к экономии жизненных и творческих сил. Кроме того, и тот, и другой были истинными, до мозга костей, петербуржцами, что уже само по себе определяло многое в их судьбах и обликах. Но не только «блоковское» начало связывало Софроницкого незримыми нитями с искусством «серебряного века». Пожалуй, более всего тут была причиной его удивительная психологическая ассонантность со Скрябиным. Чисто «скрябинский» аспект творческого бытия Софроницкого порой даже не сразу осознавался: результат складывался не только из конечных великолепных достижений, но и из самого процесса достигания. Всё, относившееся к Скрябину, было для него свято. Об Александре Николаевиче он мог говорить в любое время, в любом настроении. Во всей истории не было художественной личности более близкой ему, чем Скрябин.
С Домом-музеем композитора он был связан тесными узами с ранней молодости. Ещё в 1922 году он сыграл в нём первые две части третьей сонаты его вдове Татьяне Фёдоровне Шлёцер (незадолго до её смерти). Она плакала и говорила, что после самого Александра Николаевича ни у кого не слышала такого исполнения. Играл он скрябинскую программу и в день своего 25-летия, выступал и по возвращении из Франции, и в 30-годы, и при переезде в Москву из блокадного Ленинграда, но наиболее частыми (раз в две-три недели) его концерты здесь стали со второй половины 50-х годов. В доме его кумира состоялся и последний сольный концерт пианиста - 7 января 1961 года.
Каждое выступление Софроницкого становилось неким исключительным «действом», своеобразной «мини-мистерией», весьма родственной скрябинским откровениям для его друзей здесь же, за этим же роялем. Л.Сабанеев в своей книге «Воспоминания о Скрябине» писал, что Александр Николаевич после особенно удачных выступлений говорил: «Правда, когда такой контакт устанавливается со слушателями, то как будто уже начинается мистерия... Это уже не просто исполнение... это магия, заклинание...». Софроницкий же неоднократно в разговорах со своими близкими утверждал, что главное в его игре (и к чему он всегда стремился) - это особое «действо», во время которого он словно совершает над клавиатурой некие «пассы». К сожалению, и это «действо», и эти «пассы» остались лишь в памяти тех, кому посчастливилось быть их свидетелями: никакая, самая идеальная запись почти не способна дать о них представление.
Интерьер скрябинской квартиры. В комнатах чуть приторный аромат расставленных в вазах цветов. Зимой же это - свежий и бодрящий запах рождественской ёлочки. Обстановка, картины, само расположение вещей - всё, как было при Александре Николаевиче. Характерная скрябинская атмосфера интимности и странной, легкой взвинченности, неизвестно отчего просыпающегося ожидания грандиозных свершений. Сам хозяин словно лишь ненадолго куда-то отлучился и, милый, простой, деликатный, с приветливым выражением лица и едва заметной опьянённостью во взгляде, вот-вот появится у входных дверей. В кабинете открыт его рояль - он ещё хорошо сохранился. Портьеры на окнах задёрнуты. Слева от рояля тумбочка с включённой настольной лампой. На противоположной стене в полумраке виднеется картина Шперлинга «Заратустра» - мистический мудрец с белой лилией в руке. Справа, над письменным столом, - большой портрет матери композитора.
Посреди кабинета и в двух следующих комнатах, образующих анфиладу, ряды стульев. Музей заполнен до отказа. Молодёжь толпится по стенам, в коридоре, около дверей, в прихожей. Настроение приподнятое, чуть тревожное. В воздухе - электричество. Сейчас произойдет что-то очень важное, исключительное, нигде больше не повторяющееся. И, пожалуй, единственно достойное прежнего обитателя этой квартиры. Отнюдь не просто К1аvierabend...
Шёпот смолкает. Неподалёку от тёмной прихожей показывается знакомая статная фигура. Взгляд внутрь самого себя. Медленно подходит к роялю. Коротко, неохотно отвечает на аплодисменты. Нервно двигает лампу (с ней всегда беда: не так поставили, свет то слишком яркий, то слишком слабый). Мгновение тишины. Наконец - вхождение в «край обетованный». 10-15 минут ещё есть какая-то преграда. Потом начинается «тайнодействие».
Нигде больше Софроницкий не играл Скрябина так, как в его доме. Приходили не на концерт - в гости к Александру Николаевичу. Тот, кто теперь принимал гостей, чрезвычайно напоминал предшественника всем своим психологическим обликом, и в то же время незаметно отодвигал его неповторимостью собственных устремлений. Он открывал подчас новые, совсем неожиданные черты, о которых сам автор, по-видимому, и не думал (кстати, Скрябин в вечной изменчивости исполнительской стихии предусматривал эту возможность и даже настаивал на ней). Он, как всегда, не только старался благоговейно донести, но и внутренне дополнял, углублял, укрупнял, а кое-что и сознательно переделывал. Он опять-таки окрашивал всё неповторимо своим, «Софроницким», очень близким «скрябинскому» и всё же совершенно самостоятельным, а значит, и не абсолютно с ним совпадавшим. Это «софроницкое» бережно подхватывало святыню скрябинского искусства, но не остановилось, не застыло - смело понесло её дальше, через другое время, другим людям, по-своему развивая её, приближая к новым условиям, сохраняя в неприкосновенности лишь самый глубинный её смысл, и её сокровенный дух. В том, что Софроницкий конгениален в своих исполнительских прозрениях авторским, никто не сомневался. Знали: Скрябин играл иначе, но более подлинного, более «чистого» Скрябина не услышать. Подлинность - в самом характере переживания.
А в задней комнате, служившей раньше детской, склонившись над магнитофоном, «колдовала» группа молодых энтузиастов [1]. Сохранить, во что бы то ни стало сохранить каждую ноту великого музыканта - было их девизом. Правда, аппаратура оставляла желать много лучшего, акустические условия музея отнюдь не благоприятствовали записи, да и скрябинский «Бехштейн» зачастую не додерживал строя до конца концерта. Но что же было делать, если, к величайшему сожалению, ни одна из наших звукозаписывающих организаций - ни Радио, ни Студия грамзаписи - не проявляли ни малейшего внимания к тем неповторимым событиям, которые здесь происходили. Поэтому заслуги этих энтузиастов огромны. Многие произведения из репертуара пианиста сохранились только благодаря их усилиям. А некоторые варианты исполнений оказались лучше хранящихся в фондах Радио.
Ныне музей А.Н. Скрябина начинает публикацию своих сокровищ - концертов Владимира Владимировича Софроницкого.
Комментарии редколлегии
1. Татьяна Григорьевна Шаборкина, Евгений Мурзин, Лев Сулержицкий, Вадим Крюков, Нина Ширяева, Игорь Никонович, Павел Лобанов.
И.Никонович
В.В. СОФРОНИЦКИЙ ИГРАЕТ В МУЗЕЕ А.Н. СКРЯБИНА
Софроницкий! Мало кто из артистов в своё время вызывал столь восторженное, можно сказать, фанатическое преклонение. Его исключительность неожиданно раздвигала рамки самого понятия «фортепианное исполнительство». Софроницкий был по существу не столько интерпретатором, сколько самобытным художником-творцом сродни самым выдающимся композиторам, поэтам, живописцам. Его внутренний мир, его вдохновение излучали такую волшебную красоту, являли такое богатство поэтического мироощущения, были столь остро индивидуальны в претворении своей, глубоко личной правды, что иллюзия полной самостоятельности, а не воспроизведения лишь ранее созданного, неизменно сопутствовало ему во всей его деятельности. И не даром для поколений российской интеллигенции он являлся таким же поэтическим кумиром и символом, каким до него был Александр Блок. С Блоком его роднила смятённо-тревожная, трагическая сила вдохновения. Как и Блока, его отличали предельная чистота, внутренняя незащищенность и, вместе с тем, врожденный аристократизм во всем, до мелочей. Обоих объединяло и постоянное, беспощадное сжигание самих себя, совершенная неспособность к экономии жизненных и творческих сил. Кроме того, и тот, и другой были истинными, до мозга костей, петербуржцами, что уже само по себе определяло многое в их судьбах и обликах. Но не только «блоковское» начало связывало Софроницкого незримыми нитями с искусством «серебряного века». Пожалуй, более всего тут была причиной его удивительная психологическая ассонантность со Скрябиным. Чисто «скрябинский» аспект творческого бытия Софроницкого порой даже не сразу осознавался: результат складывался не только из конечных великолепных достижений, но и из самого процесса достигания. Всё, относившееся к Скрябину, было для него свято. Об Александре Николаевиче он мог говорить в любое время, в любом настроении. Во всей истории не было художественной личности более близкой ему, чем Скрябин.
С Домом-музеем композитора он был связан тесными узами с ранней молодости. Ещё в 1922 году он сыграл в нём первые две части третьей сонаты его вдове Татьяне Фёдоровне Шлёцер (незадолго до её смерти). Она плакала и говорила, что после самого Александра Николаевича ни у кого не слышала такого исполнения. Играл он скрябинскую программу и в день своего 25-летия, выступал и по возвращении из Франции, и в 30-годы, и при переезде в Москву из блокадного Ленинграда, но наиболее частыми (раз в две-три недели) его концерты здесь стали со второй половины 50-х годов. В доме его кумира состоялся и последний сольный концерт пианиста - 7 января 1961 года.
Каждое выступление Софроницкого становилось неким исключительным «действом», своеобразной «мини-мистерией», весьма родственной скрябинским откровениям для его друзей здесь же, за этим же роялем. Л.Сабанеев в своей книге «Воспоминания о Скрябине» писал, что Александр Николаевич после особенно удачных выступлений говорил: «Правда, когда такой контакт устанавливается со слушателями, то как будто уже начинается мистерия... Это уже не просто исполнение... это магия, заклинание...». Софроницкий же неоднократно в разговорах со своими близкими утверждал, что главное в его игре (и к чему он всегда стремился) - это особое «действо», во время которого он словно совершает над клавиатурой некие «пассы». К сожалению, и это «действо», и эти «пассы» остались лишь в памяти тех, кому посчастливилось быть их свидетелями: никакая, самая идеальная запись почти не способна дать о них представление.
Интерьер скрябинской квартиры. В комнатах чуть приторный аромат расставленных в вазах цветов. Зимой же это - свежий и бодрящий запах рождественской ёлочки. Обстановка, картины, само расположение вещей - всё, как было при Александре Николаевиче. Характерная скрябинская атмосфера интимности и странной, легкой взвинченности, неизвестно отчего просыпающегося ожидания грандиозных свершений. Сам хозяин словно лишь ненадолго куда-то отлучился и, милый, простой, деликатный, с приветливым выражением лица и едва заметной опьянённостью во взгляде, вот-вот появится у входных дверей. В кабинете открыт его рояль - он ещё хорошо сохранился. Портьеры на окнах задёрнуты. Слева от рояля тумбочка с включённой настольной лампой. На противоположной стене в полумраке виднеется картина Шперлинга «Заратустра» - мистический мудрец с белой лилией в руке. Справа, над письменным столом, - большой портрет матери композитора.
Посреди кабинета и в двух следующих комнатах, образующих анфиладу, ряды стульев. Музей заполнен до отказа. Молодёжь толпится по стенам, в коридоре, около дверей, в прихожей. Настроение приподнятое, чуть тревожное. В воздухе - электричество. Сейчас произойдет что-то очень важное, исключительное, нигде больше не повторяющееся. И, пожалуй, единственно достойное прежнего обитателя этой квартиры. Отнюдь не просто К1аvierabend...
Шёпот смолкает. Неподалёку от тёмной прихожей показывается знакомая статная фигура. Взгляд внутрь самого себя. Медленно подходит к роялю. Коротко, неохотно отвечает на аплодисменты. Нервно двигает лампу (с ней всегда беда: не так поставили, свет то слишком яркий, то слишком слабый). Мгновение тишины. Наконец - вхождение в «край обетованный». 10-15 минут ещё есть какая-то преграда. Потом начинается «тайнодействие».
Нигде больше Софроницкий не играл Скрябина так, как в его доме. Приходили не на концерт - в гости к Александру Николаевичу. Тот, кто теперь принимал гостей, чрезвычайно напоминал предшественника всем своим психологическим обликом, и в то же время незаметно отодвигал его неповторимостью собственных устремлений. Он открывал подчас новые, совсем неожиданные черты, о которых сам автор, по-видимому, и не думал (кстати, Скрябин в вечной изменчивости исполнительской стихии предусматривал эту возможность и даже настаивал на ней). Он, как всегда, не только старался благоговейно донести, но и внутренне дополнял, углублял, укрупнял, а кое-что и сознательно переделывал. Он опять-таки окрашивал всё неповторимо своим, «Софроницким», очень близким «скрябинскому» и всё же совершенно самостоятельным, а значит, и не абсолютно с ним совпадавшим. Это «софроницкое» бережно подхватывало святыню скрябинского искусства, но не остановилось, не застыло - смело понесло её дальше, через другое время, другим людям, по-своему развивая её, приближая к новым условиям, сохраняя в неприкосновенности лишь самый глубинный её смысл, и её сокровенный дух. В том, что Софроницкий конгениален в своих исполнительских прозрениях авторским, никто не сомневался. Знали: Скрябин играл иначе, но более подлинного, более «чистого» Скрябина не услышать. Подлинность - в самом характере переживания.
А в задней комнате, служившей раньше детской, склонившись над магнитофоном, «колдовала» группа молодых энтузиастов [1]. Сохранить, во что бы то ни стало сохранить каждую ноту великого музыканта - было их девизом. Правда, аппаратура оставляла желать много лучшего, акустические условия музея отнюдь не благоприятствовали записи, да и скрябинский «Бехштейн» зачастую не додерживал строя до конца концерта. Но что же было делать, если, к величайшему сожалению, ни одна из наших звукозаписывающих организаций - ни Радио, ни Студия грамзаписи - не проявляли ни малейшего внимания к тем неповторимым событиям, которые здесь происходили. Поэтому заслуги этих энтузиастов огромны. Многие произведения из репертуара пианиста сохранились только благодаря их усилиям. А некоторые варианты исполнений оказались лучше хранящихся в фондах Радио.
Ныне музей А.Н. Скрябина начинает публикацию своих сокровищ - концертов Владимира Владимировича Софроницкого.
Комментарии редколлегии
1. Татьяна Григорьевна Шаборкина, Евгений Мурзин, Лев Сулержицкий, Вадим Крюков, Нина Ширяева, Игорь Никонович, Павел Лобанов.
А.Петропавлов
О феномене Владимира Софроницкого
Отмечая 100-летнюю годовщину со дня рождения Владимира Софроницкого, вспомним, что и со дня смерти великого русского музыканта прошло уже 40 лет - срок вполне достаточный для того, чтобы попытаться понять, чем же этот гениальный пианист принципиально отличался от всех своих собратьев по профессии, так как, по признанию большинства слышавших его современников, в исполнительстве XX века он занимал совершенно особое место.
Действительно, феномен творческой личности Софроницкого представляется абсолютно уникальным и даже необъяснимым по силе и качеству эмоционального воздействия на слушателей. Это воздействие носит, на первый взгляд, некий иррациональный характер и не основано на каких-то поддающихся определению пианистических и артистических достоинствах его искусства. Хорошо знакомый с искусством Софроницкого С. Нейгауз писал: в нем «самым поразительном было то, что на всем его искусстве лежал покров тайны, нельзя было понять, как он это делает» [1]. А ведь рядом с ним творили пианисты, обладающие зачастую не меньшей (если не большей) широтой репертуара, виртуозностью, колористической фантазией, темпераментом, гипнотичностью исполнения. Достаточно назвать имена К.Аррау, В.Бакхауза, А.Корто, Б.Кемпфа, Э.Фишера, В.Гизекинга, Арт. Рубинштейна, В.Горовица, А.Бенедетти-Микельанджели, Г.Нейгауза, Э.Гилельса, Я.Флиера. М.Юдиной, С.Рихтера (список имен, естественно, далеко не полный). Однако, пожалуй, ни к одному из них не применимы слова С.Нейгауза, хотя все они, бесспорно, представляют колоссальное по масштабу и своеобразию явления искусства, по значению ни в чем не уступающие Софроницкому. Представляется, что «феномен Софроницкого», его «тайна» лежит в иной, отнюдь не артистической, плоскости. Для того, чтобы понять причину уникальности пианиста, обобщенно обозначим психологические концертные установки выдающихся представителей фортепианного искусства XX века, известные нам по их высказываниям или творческой практике, и сопоставим их. Так, при всей условности и приблизительности определений у них можно выделить следующие доминанты: одни относятся к публике в основном с равнодушием (Рахманинов) или ее игнорируют, играют «для себя» (Шнабель) или «словно бы «не видят своей аудитории» (Рихтер) [2], другие проповедуют или воспитывают (Юдина), третьи пытаются «раствориться в авторе», иные «священнодействуют» либо стремятся завоевать или ошеломить (Горовиц), иные хотят «дать публике по морде» (Прокофьев) и т.д., и т.п. Насколько же отличен от них Софроницкий, признававшийся, что «когда я играю, я всех люблю», «я лучше всего, когда играю» [3]. Таким образом, явление Софроницкого прежде всего принадлежит не пианистической, а этической категории. Артист сам так определил содержание своей работы над произведением: «Работа связана не только с самой музыкой. Работать нужно постоянно над собой духовно. Нужно думать не только о том, как лучше сыграть то или иное место, но и как стать выше, чище, духовнее, чтобы сами задачи были иными, чем еще вчера» [4]. Поэтому концерты и записи Софроницкого - акция в первую очередь не музыкальная, а этическая.
Именно его всечеловеческая любовь (не только к автору и произведению, но - главное! - к слушателям) в момент исполнения так отличала его от остальных великих интерпретаторов. Словно продолжая бетховенские заветы, он стремился, чтобы музыка шла «от сердца к сердцу». Трудно припомнить, кто бы еще играл с подобной активной психологической установкой. Ведь обычно пианисты (и самого высокого класса!) ставят во главу угла либо стремление максимально точно воплотить авторский замысел, либо убедительно представить свое видение произведения, наконец, выказать любовь к автору, но чтобы в процессе исполнения «любить всех» как Софроницкий?.. На такой нравственный подвиг был способен лишь он один, потому-то восприятие его игры принципиально отличается от восприятия игры других, не менее выдающихся и самобытных музыкантов. Я.Зак зафиксировал в своих воспоминаниях, как «замечательный пианист Э.Гроссман сказал, что ему настолько дорого исполнение Софроницким Фантазии Шумана, что другого, даже лучшего, он не хочет» [5]. Это поистине фаустовское желание («Остановись, мгновенье, ты прекрасно!») обусловлено, несомненно, в первую очередь высочайшими этическими качествами исполнения Софроницкого. При этом его интерпретации не содержат ни малейшего насилия над исполняемыми сочинениями - кажется, что это единственно возможный вариант их прочтения. Он никогда не подчеркивал наличие некоей концепции, тем не менее присутствовавшей в каждом играемом им произведении. Эта концепция не ощущалась какой-то изначально заданной жесткой конструкцией, она складывалась в процессе исполнения словно бы сама собой - и от этого воздействие на восприятие усиливалось. Во всех своих трактовках Софроницкий выступал как подлинный соавтор, превосходно знакомый с последней авторской волей. Поэтому, наставляя своих учеников, Софроницкий говорил по поводу каждого нового для них произведения: «В конце концов, у вас обязательно должно быть чувство, что вы сами его написали. И вы должны уметь полностью объяснить, почему здесь вами написано так, а не иначе, и почему выбрана именно такая форма. Имейте в виду, вы - автор того, что играете!» [6].
Сравнив, к примеру, искусство Софроницкого с искусством весьма им почитаемой и в жизни нравственно безупречной, почти святой, М.Юдиной, приходится признать, что в исполнительстве она нередко находилась целиком во власти неких «концептуальных идей», которые внушала аудитории с фанатизмом проповедника. При этом всякое инакомыслие, как правило, исключалось - юдинский «категорический императив» не допускал какой-либо иной точки зрения, даже если она не всегда соответствовала авторской. И слушатели иногда становились заложниками истовости юдинской трактовки, которая зачастую имела мало общего с концепцией автора, но была чрезвычайно убедительна.
Уровень искренности, исповедальности игры Софроницкого, ее бескомпромиссной нацеленности на слушателя не имеет себе равных в мировом пианистическом искусстве, что отмечалось многими выдающимися музыкантами. И вновь подчеркнем, что эти категории - не пианистические, а этические. Необычайная искренность исполнения и восприятия музыки выделяла Софроницкого из огромного количества собратьев по профессии. Характерно, что почти все большие артисты говорят о нем в основном в экстатическом тоне, даже не пытаясь анализировать его искусство. Вот, например, высказывание Я.Зака: «Главным в его исполнительском облике были и окрыленность таланта, и мастерство, и владение изумительными тайнами педализации и сокровеннейшими звучаниями рояля. Все было главным. Все вместе создавало невыразимое очарование, убедительность и силу исполнения, делало игру Софроницкого каким-то чудом» [7]. Г.Нейгауз, всю жизнь буквально боготворивший своего ученика С.Рихтера, все же наиболее восторженные слова посвящает Софроницкому: «Вспомним те ослепительные «протуберанцы красоты», которые поминутно выбрасывает солнце Софроницкого, с чем еще можно их сравнить! И разве не заставляют они забывать о всяких кругозорах, формах циклических и нециклических... Ведь бывают же мгновенья, которые ценнее и прекраснее многих лет жизни... Итак, - за красоту, за искусство Софроницкого! Слава ему, бесподобному поэту фортепиано!» [8]. Действительно, как точно определил художественный статус Софроницкого Г.Нейгауз! Конечно, Поэт, и уж никоим образом не распространенный сейчас Мастер...
С.Рихтер образно говорил, что «скрябинская спираль» привела Софроницкого к изобретению жизненного эликсира. «Этим эликсиром все пользовались, и я какое-то время тоже» [9]. «Жизненный эликсир» Софроницкого повлиял на всех, кто соприкасался с великим артистом, красноречивым подтверждением чему служит сборник «Воспоминания о Софроницком». Как игра пианиста, так и эта книга разительно отличается от изданий подобного рода особым интимно-исповедальным тоном повествования, душевной открытостью авторов. Особенно это заметно при сравнении воспоминаний о Софроницком с воспоминаниями о других известных музыкантах, написанных одними и теми же лицами (например, К.Аджемовым о М.Юдиной, М.Гринберг, Г.Гинзбурге, Я.Заке; С.Нейгаузом о С.Рихтере; Г.Нейгаузом о Я.Заке: Я.Заком и С.Савшинским о М.Юдиной). Безусловно, что воздействие гигантской (хотя и очень непростой) личности Софроницкого побуждало каждого, кто знал его, на лучшие душевные проявления.
Время, прошедшее со дня кончины Софроницкого, показало, что его искусство - по-прежнему недосягаемый эталон, в котором непостижимым и нераздельным образом сплавлены воедино этическое и художественное начала. В этом-то и заключается феномен великого пианиста.
Примечания
1. Нейгауз С. Тайна великого артиста //Воспоминания о Софроницком.
Изд. 2-е, доп. Сост., ред., вступ. статья и коммент. Я.Милыитейна. М.,
1982. С. 255.
2. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. Избр. статьи. Вып. 1. М., 1979.С. 99.
3. Ширяева Н. В последние годы //Воспоминания о Софроницком.
Изд.2-е, доп. Сост., ред., вступ. статья и коммент. Я.Милыитейна. М.,
1982. С. 398.
4. Никонович В. Воспоминания о В.В. Софроницком // Там же, с. 195.
5. Зак Я. Воспоминания о В.В. Софроницком // Там же, с. ПО.
6. Никонович В. Воспоминания о В.В.Софроницком // Там же, с. 209.
7. Зак Я. Воспоминания о В. В. Софроницком // Там же, с. 110.
8. Аргамаков Б. Воспоминания о В. В. Софроницком // Там же, с. 69.
9. Борисов Ю. По направлению к Рихтеру. М., 2000. С. 83.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖЕНЫ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА СОФРОНИЦКОГО
Владимир Владимирович никогда не обижался, когда его ученики ходили к другим преподавателям: Учись у кого хочешь, только хорошо играй.
Когда В.В. хотелось какого-нибудь изменения, улучшения, он говорил не отрицательно, а положительно и поэтому всё наоборот: «Какая певучесть в мелодии!» и мелодия начинала звучать так певуче, как хотелось; о том, что хотелось, говорилось так, как будто оно уже есть: «Как хорошо слышны подголоски в левой руке!» - и они начинали быть хорошо слышны - он просто обращал внимание на то, о чём упоминалось, и всё становилось на своё место.
Если не доходило до какого-то уровня, В.В. не мог слушать. Но чем лучше играли, тем больше занимался, много работал и очень много без инструмента.
В.В. говорил, что больше 5 часов работать за инструментом вредно: «5 часов идёшь вперёд, а остальное время - назад».
В.В. целый день мог писать письма: при малейшей ошибке, описке - рвал и начинал писать сначала.
В.В. любил игры: «Какого звука нет?», «В каком произведении?».
В.В. так представлял себе музыкальное будущее: «Как чтецу, музыканту будут ставить только стул, он будет садиться и думать, и всё будет звучать».
Слушая В.В., каждый испытывал ощущение радости, счастья.
В.В. говорил: «Посмотрите, как просто совершать прекрасное - надо только быть преданным!»
В.В. всегда нужно было, чтобы перед концертом я сказала: «Не забудь», так как всегда недовольный своим концертом раз-другой сказал: «Да, но всё дело в том, что я забыл хорошо играть – я опять забыл хорошо играть, я совсем не умею играть, это всё только гипноз.»
На концертах В.В. старался не смотреть в зал: «Только бы случайно не посмотреть в зал!»
Когда В.В. редактировал какую-либо вещь, он просил, чтобы я записывала, и я, стоя около него, писала то, что он говорил, он старался, чтобы не было ничего лишнего и редакция выглядела для взгляда красиво.
В.В. не бывал рад, когда говорили, что Скрябин - лучший у Софроницкого, что Софроницкий - скрябинист. И, действительно, такой ярлык умаляет В.В.!
В.В. был сама музыка. Кто лучше играл Двойника? А вальсы Шопена? В.В. любил то, что играл, а то, что не любил, то не мог играть. Каждое исполнение рождалось, жило и умирало совершенно закономерно: он не мог играть одну и ту же программу дольше определённого времени и это время - примерно месяц.
В.В. был необычайно беспомощным человеком в жизни, необычайно не приспособленным. Ботинки, костюмы, шляпы - всё приходилось покупать заочно. Доверчивый и добрый, надо было только уметь вежливо с ним разговаривать. Он хотел сделать всем хорошо, не понимая, что нельзя «объять необъятного», и ему достаточно тяжело было от этого. Полную меру этой тяжести знал только он, испытавший её.
А в каких муках рождались программы концертов!
В.В. любил называть себя гением палиндромонов. Его любимый палиндромон: «Лёша на полке клопа нашёл» (читается одинаково как слева направо, так и справа налево).
В.В. говорил, что 90% заканчивающих Консерваторию научились играть определённые вещи и только.
В.В. говорил, что нельзя заниматься так, как будто куда-то спешишь, надо искать краски, а не просто пользоваться тем-то и тем-то.
В.В. говорил, что замедлять можно, а ускорять нельзя. Внезапное замедление создаёт впечатление стремительности (пример: взлёт начала 5-й сонаты Скрябина).
В.В. говорил, что нужно начинать учить с того, что хуже знаешь.
В.В. считал, что главное - найти правильное движение.
Владимир Владимирович был очень придирчив и строг к тому, что он записывал на пластинки. Он всегда огорчался невозможности записывать столько, сколько это необходимо, чтобы получилась настоящая запись, где нет явных ошибок, а лишь такие, какие можно найти под сомнением и то - сомнение при условии явной придирки. В таких случаях он говорил, что «нельзя пропустить, меня уговаривают и, конечно, такой человек, как я, соглашается - я соглашаюсь оставить». Потом это становится источником бессонных ночей и невероятных страданий.
«Мне деньги не важны, мне необходима хорошая запись».
В.В. был строг в рабочей дисциплине. Записываясь в Доме учёных, он выразил как-то неудовольствие, что входят в зал во время записи. Однажды в доме звукозаписи человек, который монтировал записи с В.В., вышел куда-то, с полчаса В.В. ждал его спокойно, а потом нервничал, послали его разыскать. Он пришёл, и В.В. в волнении заявил: «Я приехал сюда не наслаждаться своими записями, я приехал сюда работать. Вы не уважаете чужое время».
В В.В. было много ребячества: в 1946 году было тяжело с питанием и в доме иногда была одна картошка, подчас не бывало сахара, но сколь поистине детской радости было, если появлялся арбуз или шоколад. Но с ещё большей радостью В.В. угощал и раздавал всё, что у него было, другим.
В.В. говорил, что «играть нужно как движется поезд». Но поезд равномерно, через определённые промежутки «падает» на стыках рельсов.
При игре у В.В. самым подвижным было плечо, оно делало небольшие движения, но - всё время в движении.
В.В. говорил, что «в музыке так же, как в шахматах, надо задумывать комбинации ходов, не на одну-две, а на 10 вперёд».
В.В. на уроках говорил ученикам не только о том, что плохо, но и о том, что хорошо.
В.В. говорил, что для Шопена необходим более тонкий звук, Бетховен может быть прямолинеен иногда.
В.В. говорил, что каждый палец должен быть молоточком, что пальцы не должны быть вялыми, они должны быть энергичными.
Далее в книге опубликованы письма В.В.Софроницкого и В.В.Софроницкому, которые здесь опущены. Далее приводится письмо В.В.Софроницкого В.Н.Софроницкой от 24.01.1960г.
М.Лебедева
ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ...
1953 год. Мне 17 лет. Я студентка I курса Московской консерватории, с замиранием сердца иду по Новопесчаной улице на первую встречу с Владимиром Владимировичем Софроницким.
Я ещё не знаю, что все пять лет буду заниматься у него только дома, так как в тот период Владимир Владимирович чувствовал себя не совсем здоровым и ему было разрешено не приезжать на занятия в консерваторию.
Я подала заявление в класс Софроницкого не случайно. Он был любимым пианистом нашей семьи. Все годы, как я себя помню, мама, не будучи музыкантом, с восторгом слушала его игру, главным образом по радио, узнавала её, даже не слыша объявления исполнителя, и всегда звала меня. На концерты Владимира Владимировича в Большой зал Консерватории я ходила с детства с отцом. Я слышала игру многих пианистов, но от игры Софроницкого оставалось впечатление чего-то необыкновенного, завораживающего. Так не играл никто. Позднее такое впечатление оставила, пожалуй, только игра Рихтера и Горовица.
В свою первую встречу с Владимиром Владимировичем, остановившись у двери его квартиры, я услышала, что он занимается. Позвонить стеснялась, и долго стояла у двери. Когда он закончил - позвонила. В первый раз я совсем близко увидела Софроницкого. Дверь открыл пожилой серьезный человек, с немного уставшим лицом, безукоризненно одетый. Особенно поразили меня его ботинки - черные лакированные, как на концерте (по-видимому, я от стеснения больше смотрела вниз). Быстро поздоровавшись, он предложил мне пройти в комнату и поиграть. Я сыграла и посмотрела на Владимира Владимировича - лицо его было приветливым. Я успокоилась. Он быстро, не раздумывая, дал мне новую программу - до минорную фантазию Моцарта (отдельную), прелюдию и фугу Баха и концерт Сен-Санса.
Следующий урок был через неделю. Я много занималась и выучила на память Баха и Моцарта. И хорошо сделала. Владимир Владимирович не спросил, знаю ли я наизусть, а просто взял ноты и сел на диван. С тех пор я ни разу не приносила на урок невыученных произведений.
Первые два года заниматься у Владимира Владимировича было не просто. После школы, когда многое тщательно «разжевывалось», представленная самостоятельность была непривычна. И хотя сейчас я понимаю, что во многом это было очень полезно, так как воспитывало умение самостоятельно разбираться в авторском тексте, развивало исполнительскую инициативу, но тогда, я думаю, не только для меня, но и для других студентов это было довольно сложно. Владимир Владимирович, по-видимому, видел в своих студентах более зрелых и сознательных музыкантов, чем мы были на самом деле. В Ленинграде Софроницкий преподавал аспирантам, и мне кажется, что его подход был более естествен для людей взрослых, уже прошедших консерваторский курс. Но в Москве в те годы у него была только одна аспирантка - Е.Лифшиц, одаренная пианистка, окончившая консерваторию у С.Е. Фейнберга.
В тот же период (1953-1958) у Владимира Владимировича было два ассистента - В.М. Серов, впоследствии преподававший в институте им. Гнесиных, а после него В.М. Меркулов, затем возглавлявший радиокомитет. Оба ассистента, почему-то, никогда не присутствовали на занятиях Владимира Владимировича со студентами, а следовательно и не знали его указаний, заниматься с ними было неинтересно и не слишком полезно. Да и их манера преподавания была так далека от благородной серьезности Владимира Владимировича, что очень скоро я перестала посещать занятия с ними. Владимир Владимирович не возражал. Правда Серов по долгу службы аккомпанировал мне концерты.
Только к третьему курсу у меня наступило «прозрение»: я почувствовала уверенность в своих силах и занятия с Владимиром Владимировичем стали настоящими праздниками. С огромным подъемом я работала над си-бемоль-минорной сонатой Шопена, «Карнавалом» Шумана. Именно тогда Владимир Владимирович подарил мне на память свои фотографии с дарственными надписями.
К сожалению, хотя я никогда не говорила об этом учителю, на концертах я безумно волновалась, но очень старалась, чтобы он этого не замечал, зная, что и сам он волнуется за своих студентов. На зачетах и экзаменах, которые проходили всегда в Малом зале, комиссия сидела на балконе. Когда играли ученики Владимира Владимировича, он часто вставал и нервно ходил взад и вперед. Перед ответственными выступлениями он обычно устраивал нам - своим студентам - прослушивание. Заказывал класс в консерватории, чаще всего в воскресенье, когда народа там не было, приезжал с Валентиной Николаевной и обязательно приглашал Елену Александровну (дочь А.Н. Скрябина) - свою первую жену, с мнением которой очень считался, и втроем они слушали нас. Ассистентов никогда не приглашал.
За все время занятий я не помню, чтобы на уроках со мной Владимир Владимирович был особенно чем-то недоволен или раздражен, кроме одного случая, когда я проходила ми-минорную сонату Бетховена ор. 90. Он просил играть первую часть в значительно более медленном темпе, как играл сам, но для меня этот темп был абсолютно неприемлем. И как я ни старалась перестроиться, было ясно, что у меня это не получится, исполнение в таком темпе будет неестественным. Владимир Владимирович настаивал - я не соглашалась. Так и играла на зачете. Получилось удачно. Вид у Владимира Владимировича был довольный, он сказал, что всем очень понравилось, про себя - промолчал. Но обычно я никогда не ощущала давления с его стороны. Советы, объяснения, но не давление. Показывал Владимир Владимирович часто и изумительно. Копировать было смешно и просто невозможно. Но именно в это время становилось ясно, как собственное исполнение далеко от совершенства, что надо заниматься, пытаясь хоть немного приблизиться к тому ощущению музыки, что дано было Софроницкому.
Дома мне всегда говорили, чтобы после урока я записывала указания Владимира Владимировича. Я этого не делала, так как дело было не столько в конкретных указаниях, сколько в особом настрое, в чем-то таком, что записать было невозможно, тем более, что сами указания на следующем занятии могли быть и другими, в зависимости от моей игры, или настроения Владимира Владимировича. Хотя все-таки, конечно, очень жаль, что не осталось записей, потому что сейчас я понимаю, что все, что говорилось Владимиром Владимировичем, было крайне интересным.
На уроках Софроницкий говорил немного и только о музыке.
Вопросов, особенно незначительных, он не любил. Как человека очень нервного (а тот период особенно часто Владимир Владимирович чувствовал себя нездоровым) постоянное общение с учениками, по-видимому, нарушало то состояние относительного равновесия, которое он находил, занимаясь сам и погружаясь в музыку. Думаю, что именно поэтому он не любил педагогическую деятельность (не студентов, конечно), но вынужден был заниматься ею. Ученики же, часто не понимая этого, своей беспечностью или, наоборот, «мудрствуя лукаво», утомляли его. Поэтому к некоторым ученикам Владимир Владимирович относился достаточно прохладно, но, конечно, каждому старался помочь, насколько мог.
Будучи человеком неторопливым в своих движениях, он, провожая студентов, мог как-то очень быстро помочь надеть пальто, неожиданно быстро закончить разговор. Было впечатление, что он находится в каком-то ином мире, далеком от того, в котором живут обычные люди.
Часто приходя на уроки, я не сразу звонила в квартиру, а иногда подолгу стояла и слушала, как Владимир Владимирович занимается. Было очень обидно отрывать его от занятий, хотелось уйти, или наоборот, войти и слушать его, а не играть самой. Но, переступая порог квартиры, я видела перед собой своего учителя и часто забывала, что передо мной великий музыкант, и не ощущала чего-то необычного, того таинства, которое я слышала, стоя у двери. Владимир Владимирович «спускался на землю».
Мне не хочется писать о том, что я помню не совсем точно за давностью лет.
Частная жизнь Софроницкого мне не была известна. Многие старались проникнуть в неё, но я не была любопытна.
Я видела добрые отношения Владимира Владимировича и его жены - Валентины Николаевны, через которую ученики договаривались о времени занятий. Валентина Николаевна почти всегда сопровождала Владимира Владимировича, держалась скромно. Помню: однажды Владимир Владимирович протянул мне газету и показал портрет жены иранского шаха Реза Пехлеви, который приезжал с визитом в СССР. «Правда, шахиня удивительно похожа на Валечку?» - сказал он и сам, улыбаясь, долго рассматривал этот портрет. Вообще Владимир Владимирович очень любил видеть активное подтверждение того, что чувствовал сам. В этом была какая-то детская наивность. Однажды после концерта Гилельса я пришла на урок и он весело спросил, понравилось ли мне исполнение Эмиля Григорьевича. Я ответила, что очень понравилось. Посмотрев на лицо Владимира Владимировича, я увидела, что оно стало обиженным, как у ребёнка. Я мысленно отругала себя, но сделать ничего уже было нельзя, долго потом, обращаясь ко мне, после собственного концерта, особенно если он был удачным, Владимир Владимирович посмеиваясь говорил, когда я поздравляла его: «Но ведь Вы, кажется, больше любите Гилельса?!» Восхищение, вызванное его игрой и высказанное вслух было ему необходимо.
Владимир Владимирович знал, что он великий пианист, но спрашивая, понравилось ли то или другое произведение в его исполнении, проверял, должно быть, знают ли об этом другие. И в этом, возможно, кроется секрет постоянной напряженности, которая была так свойственна Софроницкому.
Однажды, это было в начале лета 1957 года, помню Владимир Владимирович был в белом костюме, он нервно ходил по комнате (по-видимому у него были какие-то неприятности) и он, обычно сдержанный, был очень взволнован. С горечью он сказал мне: «Ведь они не понимают, что Софроницкий - это последняя лирическая нота русского пианизма». Это я запомнила на всю жизнь.
Вот уже почти тридцать лет я живу на Новопесчаной улице и часто прохожу мимо дома, в котором жил Софроницкий. Не верится, что прошло столько лет. И хочется сказать слова огромной благодарности моему учителю, не высказанные в той мере, которую ощущаешь теперь, с течением времени. В юности мы часто воспринимаем как само собой разумеющиеся - любовь родителей, заботу и внимание учителей, забывая порой как многим мы им обязаны. Общение с Софроницким - замечательным, неповторимым музыкантом, определило очень многое в моем восприятии и понимании музыки, влияние его я постоянно ощущаю и в своей педагогической деятельности. (Так, одной из первых моих работ была статья о воспитании самостоятельности и исполнительской инициативы в классе фортепиано.)
Многие, знавшие Софроницкого, вспоминая, пытаются нарисовать его портрет не только внешний, но и проникнуть в его душевный мир. Это интересно, но думаю, что невозможно. Гениальность невозможно описать, её можно только констатировать, ощущать, её не передать словами.
В 1999 году, в апреле, когда отмечалось 99-летие со дня рождения Владимира Владимировича, я слушала запись его последнего концерта, замечательную, любовно восстановленную...
Это было больше слов. Это был - СОФРОНИЦКИЙ.
М. В. Юдина
"Мне думается, образ Софроницкого ближе всего к Шопену: сила, яркость, правда, задушевность, элегичность, но и элегантность — всё это как бы общие Искусству качества."
М.Юдина
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОКОЙНОМ ДРАГОЦЕННОМ ХУДОЖНИКЕ ВЛАДИМИРЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ СОФРОНИЦКОМ
Трудно и ответственно писать о замечательном музыканте, завершившем свой земной путь.
Всегда кажется нашему близорукому духовному взору, что еще и то и это мы могли бы услышать в исполнении вдохновенного артиста, высказать ему еще и еще свои восторги и свою благодарность; кажется, что он мог исцелиться от, по сути дела, неисцелимого постигшего его недуга, мог бы предаться тихому и мирному отдыху, мог бы вновь обрести творческие силы, выраженные физически, ибо внутренние-то силы его ведь и не покидали. Да, все эти домыслы наши являются наивным детским лепетом пред лицом вечности, в коей нам остается мыслить теперь его светлый облик. И — как бывает почти всегда — кончина, смерть открывают как бы «вертикаль» ушедшего человека, его единое звучание, ибо все земное уже свершено, а не развертывается в разнообразнейшем пересечении динамики жизни во времени.
И вот, помимо суммирования поистине громадного его наследия, оставшегося нам в виде записей его интерпретаторского искусства, — не только в виде записей, но и в живой памяти еще живых слушателей, — одновременно со скорбью о невозвратимой утрате художника и человека (для многих друга и учителя), нам остались некоторые его, уже почти предсмертные, слова, освещающие и одухотворяющие ретроспективно его прошедшую жизнь дивным, мягким, страдальческим светом. Я, увы, не слыхала лично из уст его эти слова, но достоверность их абсолютно несомненна; мало того — они облетели всю страну нашу и, вероятно, и другие страны, ибо, как известно, имя Софроницкого было и осталось всемирным. Слова эти касались простой, можно сказать простейшей, вещи: лечения, обезболивающих инъекций; он говорил близким: «Не щадите меня, не обманывайте, я должен все претерпеть».
Эти несколько слов, мне кажется, по своему скромному духовному величию, по своему неувядающему, сияющему значению стоят наравне с его концертами. Сферы действия разные, но суть одна; каждому бьющемуся сердцу, каждой вибрирующей мысли — понятные и близкие. И не будем полемизировать здесь о смерти и бессмертии, о вере и неверии, об интуиции и достоверности, склонимся все перед тайной непознаваемого (как сказал Эйнштейн), и, как сказал один из наших современников (отнюдь не самый близкий мне, но замечательный поэт), Луи Арагон: «Qui croit et qui ne croit pas» [«Кто верит и кто не верит»].
Память о Софроницком, его искусство, его страдальческий облик, его жизненная «неприкаянность», его смиренная смерть — навеки принадлежат нам всем.
Как известно, мы с Владимиром Владимировичем, с Вовочкой, учились в Ленинградской, тогда Петроградской, консерватории одновременно, но в разных классах, у разных профессоров. Когда мой профессор Владимир Николаевич Дроздов уехал в 1918 году в США, я позже (ибо уезжала на некоторое время домой побыть с незабвенной своей матерью, вскоре и умершей, а потом работала по «Внешкольному музыкальному образованию» — все это имело место в городе Невеле, тогда Псковской губернии) вошла в число учеников знаменитого профессора фортепиано — Леонида Владимировича Николаева, где уже блистал Вовочка Софроницкий. И вот один учебный год мы и учились с ним, Софроницким, вместе, но встречались на уроках редко; я рьяно училась в университете тогда, а также в дирижерском классе Эмилия Альбертовича Купера, причем главной «пищей» его класса были постановки Эмилия Альбертовича в Мариинском театре оперы и балета («Сказание о граде Китеже», «Лоэнгрин», готовилась и «Валькирия»). На уроках у Леонида Владимировича, увы, мы почти и не виделись с Вовочкой. Тем более что я кончала вещами, пройденными еще ранее у Владимира Николаевича Дроздова, среди них «высилась» и соната h-moll Листа. И в заключительной программе Вовочки она также стояла. Вот мы и сыграли ее оба, друг за другом, так как наши «выпускные» выступления были назначены два дня подряд. (Тогда не было пышного слова «диплом!».)
Оба дня Малый зал Петроградской консерватории был переполнен (то был май или июнь — не помню! — 1921 года) и — как теперь на конкурсах — «болельщики» игры на фортепиано резко разделились на «две партии» — приверженцев Софроницкого и Юдиной. И особенно обсуждалась именно соната Листа! Напечатаны были и громадные статьи в газетах о нас двоих и нашем долженствующем быть блестящем будущем, и о нашем различии; автора одной из них я хорошо помню — Николая Михайловича Стрельникова, образованного и остроумного журналиста, потом писавшего оперетты, но и подружившегося в дальнейшем с посетившим СССР (по случаю постановки у нас его замечательной оперы «Воццек») Альбаном Бергом. Но ни разногласия высказанных мнений, ни различия наших вкусов и пристрастий ни в коей мере нас — Софроницкого и меня — не поссорили, разумеется. Но и не приблизили нас друг к другу тоже. Каждый шел своим путем.
Вот при одновременном окончании консерватории, при встречах на последних уроках (ну и мне-то ведь приходилось «отрываться» от средневековых латинских текстов и посещать положенное...) и репетициях мы иной раз беседовали; Вовочка уже тогда был замечательным провозвестником творчества Скрябина, я же изучала в ту пору кантаты Баха (и даже проходила некоторые из них с превосходной солисткой Мариинского театра Одой Слободской— драматическое сопрано) и уже начала играть весь «Хорошо темперированный клавир»; я высказывала своему вдохновенному собрату сожаление о недостаточной его любви к Моцарту— так мы мирно демонстрировали друг другу свои пути, свои сокровища, своих, можно сказать, кумиров!..
Здесь необходимо добавить, что в двадцатом году Владимир Владимирович Софроницкий женился на старшей дочери Александра Николаевича Скрябина Елене Александровне, или Ляле. Мы все в консерватории с отрадой и симпатией наблюдали поэтическую взаимную влюбленность обоих. До чего же они были очаровательны!
Молодость, необычайная, одухотворенная, какая-то прозрачная красота и Вовочки, и Ляли создали из них всеобщих любимцев, не говоря уже о даровании; жениха и ореоле имени отца невесты! Зачастую они приходили в тот или иной концерт в Малый зал консерватории и садились в какой-либо из последних рядов (тогда ведь в суровую эпоху гражданской войны концерты в большинстве случаев почти и не собирали полных залов!..) для беспрепятственного диалога шепотом или диалога взглядов! Их не могло смутить всеобщее внимание; и они сами, и внимание это были чисты и трогательны! Ляля, между прочим, тоже, конечно, была хорошей пианисткой. Омрачен этот период времени был тяжелой болезнью матери Ляли и Маши (Марии Александровны Скрябиной-Татариновой, замечательной женщины, впоследствии сотрудницы мемориального Музея А. Н. Скрябина) — Веры Ивановны Исакович, как известно, прекрасной пианистки, профессора Ленинградской консерватории; она скончалась вскоре — как одна из первых жертв гриппа, именовавшегося тогда «испанкой».
Вот тогда мы и кончили; как именно — говорить неуместно. Но вот мы и остались оба в Искусстве...
Еще с нами кончала превосходная пианистка — Ариадна Владимировна Бирмак. А мы оба, Софроницкий и я, получили наградные рояли... на бумаге.
Время было трудное...
В течение двадцатых годов мы, вероятно, почти и не виделись: у каждого были свои пути, свои «Труды и дни», свои скорби и радости.
Встретились мы, что называется «творчески», значительно позже, в 1930 или 1931 году. В то время я часто ездила (то есть летала) играть в Тифлис, потом Ереван (тогда Эривань). Там создалась для меня творческая атмосфера. Я предложила Владимиру Владимировичу подготовить совместно программу концерта на двух фортепиано; мы и подготовили ее — две фуги из «Kunst der Fuge», Сонату D-dur Моцарта, а что еще —я позабыла!! Невероятно, но факт!! Впрочем, без сомнения, сохранились все программы именно Софроницкого, ибо их собирали преданные его друзья, а я их не собирала; и у меня, разумеется, благодарение Богу, никогда не было недостатка в замечательных друзьях, но мое равнодушие к внешним атрибутам артистического пути было, возможно, еще более категорично, чем таковое же у Владимира Владимировича, или его друзья были в этом отношении настойчивее, и вот программы наши можно возобновить! Помню, когда мы репетировали фуги из «Kunst der Fuge», Софроницкий, не зная раньше этих дивных творений, говорил: «Как хорошо, как прекрасно, как в раю!» Во время этих репетиций я познакомилась с чудесной, обожавшей Софроницкого семьей художников Визель; отец был известным профессором Академии художеств в Петрограде и одна из дочерей — Ада, насколько мне известно, — архитектор — была верным, мудрым, пожизненным другом артиста.
Мы сыграли эту нашу программу в Тифлисе, а потом в Ленинграде, в так называемом «Обществе камерной музыки».
В тридцатые годы мы тоже, увы, редко встречались, но ярко запомнились три встречи; первая: однажды поздно вечером, почти ночью, посетили меня Мейерхольды — Всеволод Эмильевич и Зинаида Николаевна — с Владимиром Владимировичем Софроницким. Владимир Владимирович был в некоем бурном состоянии духа и сразу оторвал ручку плохо закрывавшейся двери моего жилища на Дворцовой набережной; жилище было нетоплено, к чаю ничего не было (время для меня сложилось трудное), но мы все четверо были безмерно рады друг другу, каждый рассказывал о себе, своих постановках, концертах, надеждах и катастрофах. За окнами блестела Нева во льду, на нас участливо глядели громадные зимние созвездия. Среди ночи, долго просидев, они все ушли; мы были счастливы — они в славе, я — в очередной опале. Никто ничего не мог предвидеть, что случится потом...
То была одна из фантастических встреч меж нами, людьми, нелицемерно преданными искусству...
Затем еще одна веселая, в излюбленном Софроницким «младенческом» стиле... Играли у Визелей в «petits jeux», с «фантами»; сестры Визель рассказывали о разных забавных проделках великого музыканта (то отнюдь не был «дадаизм»), Софроницкий никогда не «ломался», он от души зачастую бывал большим ребенком, веселился, играл в разные игры как ребенок, видимо, сам не сознавая того, отдыхал от духовных напряжений, от вековечного ига требовательной Музы.
Затем в необыкновенном, прекрасно убранном старинным фарфором, бисерными вышивками и другими раритетами доме нашей с Софроницким тоже подруги или коллеги — пианистки Марии Константиновны Юшковой-Залеской (окончившей консерваторию на год позже нас у того же Леонида Владимировича Николаева) и ее супруга, человека редкой доброты и большого образования — Бориса Владимировича Залеского, известного петрографа. Бывать у них было отрадно, хоть и жили они далеко — в Лесном, в Политехническом институте.
Покойная Мария Константиновна была отличная музыкантша и красавица, стилизовавшая себя в некоем египетском стиле.
А я тогда постигала Велемира Хлебникова!
В тот вечер со мной был третий том (издания Н. Л. Степанова), я намеревалась почитать им всем «Зангези» и многое другое, но не тут-то было: Владимир Владимирович взял у меня книгу из рук, открыл наугад и, попав на нечто сугубо непонятное, как разорвет книгу пополам, как швырнет ее через всю стилизованную столовую, едва не задев один из драгоценных сервизов! Вот таким непосредственным — то бурным, то веселым, то печальным — он всегда и был.
А в Тифлисе почтенные профессора консерватории давали тогда в нашу честь некий банкет с обычным грузинским хлебосольством; имелся там и бассейн с живой рыбой, на каменном полу... Софроницкому было, видимо, скучно со всеми пожилыми (кроме меня тогда, конечно), почтенными, обусловленными, старомодными... и вдруг он как шагнет в бассейн этот во фраке!!., все были в ужасе, и все всё простили...
Оставим эти забавные мелочи. Они лишь дают некую (частично) причудливую рамку к строгому образу великолепного художника, в стиле «гротеск» или «bizarre»...
Мне думается, образ Софроницкого ближе всего к Шопену: сила, яркость, правда, задушевность, элегичность, но и элегантность — всё это как бы общие Искусству качества. Но и у Шопена, и у Софроницкого помещены они в некоем предельно-напряженном разрезе, «не на жизнь, а на смерть», всерьез, в слезах, заливающих лицо, руки, жизнь, или аскетически проглоченных — уже и не до них, не до слез, всему сейчас конец — скорее, скорее!! — или все сияет в чистоте духовного взора, обращенного к солнечному Источнику Правды.
Софроницкий именно чистейший романтик; он весь — в стремлении к бесконечному и в полном равнодушии к житейскому морю и полнейшей беспомощности в таковом.
Еще немного о появлении Софроницкого в Москве во время Отечественной войны.
Начало 1942 года ознаменовалось в Москве прибытием Владимира Владимировича Софроницкого, спасенного, привезенного на самолете из Ленинграда.
Радость эта была несказанна и неописуема. Мы в Москве не знали, числить ли его в живых или мертвых; первые его концерты здесь воспринимались как чудо «воскресения из мертвых», «зримое чудо!»
Концерты эти проходили под охраной конной милиции, дабы стремящиеся в залы толпы людей не «разнесли» зданий.
Так дионисийское это поклонение продолжалось многие годы; и потом. Дата сего исторического прибытия 9 марта 1942 года.
Г. Г. Нейгауз
"Можно с ним «не соглашаться» ..., но не внимать ему нельзя, и, внимая, нельзя не почувствовать и не осознать, что искусство это замечательное, уникальное, что оно обладает теми чертами высшей красоты, которые не так уж широко распространены на нашей планете."
Г.Нейгауз
ВЛАДИМИР СОФРОНИЦКИЙ
Владимир Владимирович Софроницкий, бесспорно, принадлежит к числу любимейших в нашей стране артистов. Любовь эту он внушает не только широчайшим массам слушателей, но и строгим ценителям — профессионалам, музыкантам вообще, пианистам в частности. Если бы у меня было достаточно времени и досуга, я с радостью посвятил бы Софроницкому целую книгу, ибо я знаю мало пианистов, которые на протяжении десятков лет так глубоко меня занимали, пробуждали столько чувств и дум, так часто меня восхищали, просто были таким значительным событием в моей художественной жизни. Вряд ли я смогу в газетной статье дать хотя бы приближенное представление обо всем, что для меня связано с именем «Софроницкий», но попытка не пытка...
Впервые я увидел и услышал Владимира Владимировича тридцать восемь лет назад в доме ныне покойного профессора Московской консерватории Анны Павловны Островской. Он много играл, преимущественно Скрябина, играл чудесно, обаятельно и сам был при этом красив, как юный Аполлон!
Я, не сопротивляясь, сразу подпал под его очарование, от которого уже никогда не освобождался, да, впрочем, никогда и не стремился к этому. Мне тогда же стало ясно, что слухи о нем оправданны, что это явление исключительное. «Вот что такое красота, это именно и есть красота!» — эти простые мысли, скорее междометия, непроизвольно возникали в моей душе, когда я слушал его и в первый раз у Анны Павловны, и впоследствии на протяжении более трех десятилетий, много-много раз. Его игра вызывала какое-то особое, обостренное чувство красоты, сравнимое с красотой и запахом первых весенних цветов — ландыша или сирени, которые трогают не только сами по себе, но и как ожившее воспоминание о столько раз и всегда заново, всегда в первый раз пережитом и испытанном… Иногда эта красота приобретает у Софроницкого причудливые очертания орхидей, морозных узоров на окне в январскую стужу, сказочность северного сияния… Печать чего-то необыкновенного, иногда почти сверхъестественного, таинственного, необъяснимого и властно влекущего к себе всегда лежит на его игре... Его изощренность, не терпящая ничего грубого, крикливого, назойливого, слишком чувственного, слишком прямолинейного, слишком общедоступного и «обязательного» (пусть даже в лучшем смысле), не имела и не имеет ничего общего с болезненной утонченностью художника, отворачивающегося от жизни и ее правды. Эта изощренность приводит мне на ум скорее знаменитое изречение Альберта Эйнштейна: «Gott ist raffiniert, aber nicht bosarting» — «Бог изощрен, но не зловреден», чем мысли об «уходе из жизни», пессимистическом неприятии ее и т.д. Нет, эта «изощренность» есть один из прекраснейших цветов жизни, духовной культуры, одно из прекраснейших проявлений искусства, без которых оно никогда не достигает своих вершин. Красота Моцарта, Шопена, стихов раннего да и позднего Блока, изощренная красота Скрябина (и раннего, и позднего), Дебюсси — я бы мог привести еще много примеров из истории искусства — вот чему, мне кажется, родственно, близко искусство Софроницкого. Но не надо перечислений и аналогий. Хочется описывать большое явление в области искусства скорее в его первозданности и уникальности, чем в аспекте истории, социологии, хотя такой подход и тысячу раз оправдан, и правомочен, и необходим, и неизбежен.
Софроницкий прошел прекрасную пианистическую школу. Начав в детстве заниматься у знаменитого варшавского пианиста Александра Михаловского, крупного виртуоза и тонкого исполнителя Шопена, он впоследствии окончил Ленинградскую (Петроградскую) консерваторию у одного из виднейших наших профессоров, воспитателей талантливой пианистической молодежи — у Л. В. Николаева. Оба учителя привили молодому Софроницкому любовь к законченности отделки, безупречности техники, красоте звука и музыкальной фразы. Впрочем, думаю, что этими качествами пианист обладал «от рождения», и хорошая школа только успешно развила его природные данные. (Софроницкий рассказывал мне, что, когда он был еще мальчиком, в Варшаве его. долго слушал в смежной комнате поэт Александр Блок, и рассказывал это с большим волнением.).
Известность пришла к Владимиру Владимировичу рано (ему было приблизительно лет 20), но не носила того эпатирующего, «сногсшибательного» характера, который преобладает в начальной биографии многих выдающихся пианистов-виртуозов.
Круг его почитателей, начав с самых тонких, взыскательных ценителей музыки и фортепианного искусства, постепенно и закономерно расширялся, достигнув уже через несколько лет огромных размеров. На моей памяти любой концерт Софроницкого проходил неизменно при переполненном зале и при самых горячих и искренних овациях аудитории. Глубокое проникновение в свои творческие замыслы, умение передать какую-то «тайную черту» исполняемого, что-то свое, бесконечно свое, личное, пережитое, подслушанное где-то в глубоких и «темных» тайниках своей души, — вот что всегда привлекает и восхищает слушателя.
Можно с ним «не соглашаться», как принято говорить (ведь восприятие искусства так же бесконечно и разнообразно, как само искусство), но не внимать ему нельзя, и, внимая, нельзя не почувствовать и не осознать, что искусство это замечательное, уникальное, что оно обладает теми чертами высшей красоты, которые не так уж широко распространены на нашей планете.
Черты эти вы найдете в любом произведении любого автора, играемого Софроницким. Я не хочу этим выразить довольно трафаретное суждение, что он «одинаково хорошо» играет любого автора. Что значит «одинаково хорошо», и для кого «одинаково хорошо»? Его репертуар огромен, как, впрочем, у всех действительно больших пианистов. Вспомните при этом, как по-разному он играет и играл на протяжении десятилетий одни и те же вещи! И все-таки после нескольких тактов всегда можно было узнать, что играет именно Софроницкий.
Много лет тому назад я написал, что слушая его, поневоле вспоминаешь слова Гераклита: «Дважды не вступишь в одну и ту же реку». Это действительно так, Блок как-то писал, что Врубель сорок раз рисовал и перерисовывал голову своего падшего Демона и что некоторые варианты были гораздо лучше того окончательного, который мы видим в Третьяковской галерее. Явление это в точности напоминает мне то, что происходит с Софроницким, когда он в 50-й или 100-й раз играет какой-либо ноктюрн Шопена или Двенадцатый этюд Скрябина из ор. 8. Тут не только та вечная неудовлетворенность, я бы сказал, «ненасытность» настоящего художника, которая обычно именуется «поисками» (хотя в этих поисках гораздо больше находок, чем даже в лучших находках менее одаренных художников), тут, кроме всего, — я говорю о Софроницком — властвует закон концертного исполнения — закон мгновения, закон данной минуты, данного душевного состояния, данного переживания, который, как бы ни был высок стандарт художника в целом, непременно скажется на исполнении… В этих колебаниях исполнения сказывается, кроме всего остального, и искренность большого художника, его автобиографичность — он не может говорить неправду, и, если он в данный момент почему-либо находится в «надире» своего душевного состояния, он не может «делать вид», внушить слушателям, что он находится в «зените».. (Этот вопрос часто обсуждался в критике, достаточно вспомнить суждения о Мочалове или Леонидове.)
Я этим вовсе не хочу сказать, что в творчестве Софроницкого преобладает «дионисийское» начало (стихийное) в противовес «аполлиническому», о котором говорили еще древние греки. Наоборот, у Софроницкого, если уже рассматривать его в этом плане, скорее преобладает аполлиническое начало, что, однако, нисколько не мешает ему играть по-разному, так заметно по-разному (как бы создавая каждый раз новый замысел исполнения), что я с трудом назову другого художника-исполнителя, который умел бы так перевоплощаться, так изменяться, оставаясь всегда верным себе, всегда искренним, не заимствуя ничего извне… В этой «многоликости» Софроницкого, если допустимо такое выражение, я усматриваю высокое качество его искусства — оно говорит о богатстве его фантазии, о неисчерпаемом импровизационном даре, а ведь это самые необходимые, самые лучшие свойства исполнителя. Многие считают Софроницкого по преимуществу лириком. Может быть, это и так, но тогда хочется высказать еретическое суждение, что, вероятно, вся музыка целиком по преимуществу «лирика». С каким демонизмом этот «лирик» исполнял еще в молодости «Мефисто-вальс» Листа! Как он умеет выявить драматические коллизии в таких произведениях, как Фантазия f-moll Шопена, Соната fis-moll Шумана!
Когда вспоминаешь славный жизненный путь Софроницкого, вспоминаешь десятки, сотни его чудесных концертов, хочется поговорить о столь многом, о столь разнообразном, что поневоле «глаза разбегаются», чувствуешь полную невозможность выразить это словами и опять и опять вспоминаешь Гамлета — слова, слова, слова… Не лучше ли замолчать. Скажу лишь, если мне дозволено выразить одно сугубо личное впечатление, что из всего огромного количества слышанных мною в исполнении Софроницкого произведений мне как-то особенно, действительно на всю жизнь запомнились следующие сочинения: Десятая соната Скрябина, 24 прелюдии Шопена ор. 28 (это было давно-давно, вероятно, лет 25 тому назад), «Sposalizio» Листа, Восьмая (fis-moll) новеллетта Шумана, «Сарказмы» Прокофьева, Ноктюрн F-dur Шопена, «Сатаническая поэма» Скрябина. С этими сочинениями для меня навсегда связалось незыблемое, прочное и незабываемое ощущение: мир совершенен, мечта стала действительностью и хотелось вместе с Фаустом воскликнуть: «Остановись, мгновение» — пусть даже с риском разделять судьбу Фауста... Я не преувеличиваю — такие моменты, такие встречи с искусством, с «гением красоты» принадлежат к самому редкому, самому прекрасному, что можно испытать в жизни.
На этом хотелось бы окончить краткий разговор о Софроницком, об одном из величайших русских пианистов. Боюсь, что меня могут упрекнуть в подчеркнуто «юбилейном» стиле этой статьи. Но ведь и на солнце бывают пятна!
Многие считают, да и я сам иногда думал, что Софроницкому лучше «удаются» (какое несимпатичное выражение!) пьесы небольшие, чем большие, «длинные», особенно если они написаны в сонатной, циклической форме. Может быть...
Но вспомним те ослепительные «протуберанцы красоты», которые поминутно выбрасывает солнце Софроницкого, — с чем еще можно их сравнить! И разве не заставляют они забывать о всяких кругозорах, формах циклических и нециклических... Ведь бывают же мгновения, которые ценнее и прекраснее многих лет жизни... Итак — за красоту, за искусство Софроницкого!
Слава ему, бесподобному поэту фортепиано!
С.И.Савшинский
"Он вкладывал в исполнение музыки всю наивную страстность первой любви к ней, играл с полной самоотдачей пылкой и нежной натуры романтика."
С.Савшинский
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕЗАБЫВАЕМОГО АРТИСТА
Софроницкого я знал с 1916 года, когда он поступил в класс Леонида Николаева.
Окончив консерваторию годом раньше, я не порывал связи со своим учителем и посещал время от времени его уроки с учениками, в числе которых было немало высокоодаренных пианистов и музыкантов. Слушать занятия с ними было интересно и поучительно.
Как-то, при одной из встреч в начале 1916 года, Леонид Владимирович сказал мне: «Приходите послушать чудесного мальчика. Он в прошлом году приехал из Варшавы. Мне кажется, что это выдающийся талант, и он уже отлично играет». Такой отзыв Леонида Владимировича, всегда скупого на лестные слова по адресу своих учеников и обычно довольствующегося сдержанной оценкой: «Очень мило!», насторожил меня. Узнав, что новый ученик занимается по средам, я в одну из ближайших сред пошел в консерваторию.
В классе я застал Вовочку. Так звал его Леонид Владимирович и позднее все более и менее близкие к нему люди, выражая ласкательным именем нежность и любовь, которые рождал у всех его облик, пленительный и в юношеские, и в зрелые годы.
То был юноша из страны романтических грез Шумана. Мне он представился воплощением Эвзебия: застенчивый, но не робкий, внутренне сосредоточенный, словно отстраняющийся от грубых прикосновений жизни. Играл он в тот день пьесу, которую сохранил в своем репертуаре на долгие годы, — Тарантеллу из цикла «Венеция и Неаполь». Исполняя это блестящее, полное огня произведение, он словно переродился, быть может, правильнее сказать — перевоплотился. Трудно было предполагать, что застенчивый, замкнутый, несколько скованный в движениях юноша таит в себе столько пламенного темперамента и мужественной воли, что он с такой непринужденной теплотой, непосредственностью и богатством интонаций может спеть характерно итальянскую канцону, украшенную элегантными фиоритурами. И уже тогда нельзя было не заметить некоторых особенностей его художественной индивидуальности.
Все, начиная с трактовки этого заигранного произведения, своеобразного чувства фразы, ритма и красок инструмента, говорило, что Леонид Владимирович прав: Софроницкий не был одним из вундеркиндов, блиставших техникой, апломбом и темпераментом, которыми в те годы была богата Петербургская консерватория. Это был юный поэт. Он вкладывал в исполнение музыки всю наивную страстность первой любви к ней, играл с полной самоотдачей пылкой и нежной натуры романтика. Пусть в его исполнении и были недочеты еще не вполне зрелого пианиста, но нельзя было слушать его без увлечения и волнения.
Леонид Владимирович провел урок с большим мастерством и педагогическим тактом. Вопреки обыкновению дотошно прорабатывать каждую деталь, вникать в технику исполнения вплоть до техники игровых движений, здесь он многое предоставлял интуиции и разуму замечательного ученика. Обогатив свой лексикон словами — превосходно, прелестно, чудесно и другими эпитетами превосходной степени, — Леонид Владимирович обращался к ученику: «У вас чудесно прозвучал пассажик. Сыграйте его еще раз, только обратите внимание на си-бекар, ведь он придает остроту линии»; или: «Этот подъем у вас получился увлекательно, но ведь он еще не самый главный, настоящая кульминация впереди — вот она!»; или: «В этом пассаже труден поворот линии. Попробуйте помочь себе поворотом всей руки».
Последовавшие вскоре встречи с Софроницким подтверждали, углубляли и усиливали первые впечатления от его замечательно своеобразного таланта. Однако жизненные обстоятельства надолго оторвали меня от Петрограда, и я был лишен возможности наблюдать быстрый ход его созревания.
Вернувшись осенью 1921 года в Петроград в качестве преподавателя консерватории, я застал Владимира Владимировича уже концертирующим пианистом, завоевавшим горячую любовь взыскательной петроградской публики и выдающихся музыкантов города, еще не забывших выступлений д'Альбера, Падеревского, Гофмана, Бузони, Годовского, Скрябина, Рахманинова и других гигантов-пианистов. Особой любовью дарили его А. Глазунов, А. Оссовский и Эмиль Купер, руководивший в ту пору спектаклями бывшего Мариинского театра и концертами оркестра филармонии. К названным музыкантам добавлю также Веру Ивановну Скрябину, передавшую Софроницкому особую любовь к творчеству своего гениального супруга. Может быть, именно она способствовала тому, что Софроницкий унаследовал характерные черты неповторимого своеобразия скрябинского пианизма. (Женившись на ее дочери, Софроницкий породнился с семьей Скрябина.)
Популярность Софроницкого возрастала из года в год. Ее не затмили концертировавшие в те годы зарубежные пианисты Э.Петри, А.Шнабель, а также яркой кометой вспыхнувший ослепительный талант В.Горовица. Отдавая дань каждому, советская публика особо нежную любовь дарила своему Софроницкому. Его творчество, ни на чье не похожее, стоявшее особняком, было особенно близко советскому слушателю.
Быстро росла всесоюзная популярность Софроницкого. Его концерты в Москве, посвященные сочинениям Скрябина в десятую годовщину смерти композитора, завоевали ему репутацию лучшего исполнителя скрябинских произведений. И действительно, ни до Софроницкого, ни после него не было пианиста, который так тонко и в таком совершенстве проник бы в своеобразный мир музыки этого композитора, исполнился ее духом и нашел выразительные средства для ее воплощения.
В 1928 году состоялась поездка Владимира Владимировича в Польшу и в Париж. Она сопровождалась полным признанием его выдающегося таланта и мастерства.
Вместе с ростом достижений рос и репертуар Софроницкого. Наряду с романтиками Запада и Скрябиным, в круг его любимых композиторов включаются Метнер и Прокофьев. В творчестве Прокофьева Софроницкий одним из первых, если не первым, услышал струю лиризма и задушевности, черты, которые долго если не отрицали, то не замечали исследователи и исполнители, обычно подчеркивавшие бодрость, напористость, гротесковостъ, озорной вызов вкусу к «изыскам» и даже «спортивный дух» его музыки. Охотно играл Софроницкий и картинные произведения Дебюсси. В конце тридцатых годов (сезон 1937/38 года) он дает в Малом зале Ленинградской консерватории серию из двенадцати концертов, в программе которых, наряду с зарубежной классикой и романтикой, было представлено также творчество русских и советских композиторов.
Красота и искусство игры Софроницкого, ее обаяние и сила воздействия были необычайны. Забывалось, что звучит деревянный ящик с молоточками, бьющими по струнам. Казалось, артист непосредственно излучает музыку. «Рояль исчезает, и нам открывается музыка» (Г. Гейне).
Но он не всегда сразу настраивался и увлекал публику. Случалось, что не только в первой пьесе, но даже на протяжении всего первого отделения нельзя было узнать артиста, который умел магически завораживать слушателя. Таким он был с юности. Приведу характерный факт. А. Глазунов, щедрый даже на преувеличенную похвалу, в отзыве об исполнении Владимиром Владимировичем на выпускном экзамене фортепианного концерта писал, что если бы он не слышал до этого в его исполнении так называемой «стильной программы»(Это были произведения Баха или Генделя, Моцарта или Гайдна, иногда Скарлатти; далее шли Бетховен, Шуман, который изредка заменялся Брамсом и еще реже Шубертом; затем обязательно — Шопен и Лист. Произведения русского автора обычно не включались в сольную программу, исполнялся концерт или камерный ансамбль отечественного композитора.), то по исполнению концерта затруднился бы судить о степени дарования пианиста и степени его законченности. Очевидно, лишенный «разгона», Софроницкий не успел войти в настроение и разыграться на эстраде. При исполнении же концертов с оркестром, как правило, надо сразу «брать быка за рога»...
Артист по призванию и таланту, Софроницкий не был избавлен от волнения при каждом публичном исполнении, причем степень волнения была несоизмерима со сложностью задач. Вспоминаю один из концертов учеников Леонида Владимировича, который должен был украсить Софроницкий. Играть ему предстояло всего лишь пару «Сарказмов» Прокофьева, много раз игранных им в концертах, и еще что-то несложное и «неопасное» для исполнения.
Зайдя в артистическую, я застал Владимира Владимировича в одиночестве, пластом лежащим на кушетке. Мертвенно-бледный, он едва ответил на приветствие и, как это бывало не раз, слегка гнусавя, пробурчал: «И зачем вы пришли... я совсем болен и буду плохо играть». Вид его был таким болезненным, что я готов был поверить его словам. Но играл он на редкость вдохновенно и мастерски. А после концерта иным было его настроение, иным был и его вид.
Несколько слов о внешнем облике Софроницкого за роялем. Говорю об этом потому, что внешнее выражает внутреннее. В его облике было что-то, говорившее о душевном благородстве, о большом содержании внутренней жизни, чистоте и красоте души. Знавшие Владимира Владимировича навсегда запомнили бледное лицо, сосредоточенный взгляд теплых глаз, посаженных глубоко под низко надвинутыми бровями, взгляд, не любопытствующий происходящим вовне, а словно присматривающийся и прислушивающийся к происходящему внутри — к мыслям и чувствам всегда трепетной душевной жизни; запомнили горькую складку тонко очерченного рта и до конца дней не поседевшую густую шевелюру «живых» темнорусых волос, оттенявших чистый лоб. Высокого роста, стройный, он, державшийся несколько «зажато», на аудиторию не обращал внимания. Он не угодничал перед публикой, не заискивал перед ней. Простота, правдивость, искренность — вот характеристика поведения Софроницкого в быту и в творчестве. Ему было безразлично, как он выглядит во время игры со стороны. И все, не только знающие, что их ожидает, какого кудесника они услышат, но и впервые пришедшие его слушать, сразу неизбежно поддавались обаянию личности этого с ног до головы поэта фортепиано.
В 1937 году, в бытность заведующим фортепианной кафедрой, я поставил перед собой задачу: привлечь Софроницкого к педагогической работе в консерватории. Это оказалось очень трудным делом. С присущей ему скромностью и даже застенчивостью он говорил: «Да что Вы! Я ниногда этим не занимался!.. Да я этого и не умею!.. Да не люблю я это!..» И не легко было убедить его, что никто не ждет от него школярского преподавания, что один лишь факт общения с ним будет вдохновлять тех, кому посчастливится заниматься у выдающегося артиста, а возможность слушать его и видеть вблизи его игру будет лучшей школой для тех, кто умеет слышать и наблюдать.
Согласились мы на том, что систематических занятий со студентами он вести не будет, класса он не берет. Таково было его непреклонное решение. Он будет консультировать аспирантов и в отдельных случаях студентов, занимающихся у других профессоров, разумеется, с их ведома и благословения. Отказался он и от того, чтобы его занятия были открытыми для широкого круга слушателей.
Со слов моих студентов, которых я направил на занятия с Владимиром Владимировичем, я имею некоторое представление о его педагогике того времени. Он не был педагогом, который систематически воспитывает ученика, последовательно развивает его способности и умения. Он не разъяснял при затруднениях, в чем их сущность, не указывал, как и что делать, хотя за долгие годы занятий с Л. В. Николаевым сам, несомненно, хорошо изучил «кухню» фортепианной техники. Но он не был и педагогом типа Иоахима: будучи неудовлетворен исполнением ученика, Иоахим сам играл неудавшееся место и единственным замечанием его было: «Вы должны играть это так!» Софроницкий давал конкретные советы. Они касались общего характера всей пьесы или ее отдельных эпизодов. Когда было нужно, он выделял из целого те или другие элементы фактуры, определял их значение, говорил о манере исполнения. Мог он указать педализацию и даже аппликатуру. Но все указания им не обобщались. «В этом месте левая рука должна играть главную роль... Здесь фигурацию в правой уберите, завуалируйте. Она должна как бы «прислы-шаться», а не звучать «осязаемо» и т. п. Короче говоря, трудно было у него учиться. И чтобы научиться, надо было уметь у него учиться.
В эти годы я еще больше полюбил благородную натуру Владимира Владимировича и сблизился с ним, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Впрочем, в такие годы разница не мешает сближению. Еще большая разница не помешала любовно-покровительственному отношению учителя — Леонида Владимировича Николаева — к своему замечательному ученику и почтительно-любовному — Владимира Владимировича — к учителю,. перейти в долголетнюю теплую дружбу.
Годы, полные великих событий, не проходили бесследно для Софроницкого. Вместе со всей страной, мужавшей в борьбе с трудностями и опасностями, крепнувшей, как булат под ударами молота, мужала и крепла личность художника. Доминировавшие в юности нотки женственного лиризма уступили .место мужественной страстности. Его игра подчас становилась суровой до жесткости и трагичной до боли...
Последние мои встречи с Софроницким имели место в конце пятидесятых годов. Это было на его концерте в Музее А.Н.Скрябина и на его квартире, где он жил затворником, появляясь в обществе лишь для выступления в концерте. Консерваторию он не посещал. Со студентами занимался у себя дома. Выступал он в ту пору только в относительно интимных условиях. Делал исключения лишь для концертов в Доме ученых и Музее Скрябина.
Концерты в Музее Скрябина проходили в обстановке домашнего музицирования. Большая комната (не знаю, был ли в ней при жизни композитора кабинет или зал), никакой эстрады, набор разношерстных стульев из разных комнат квартиры, которые расставлялись как кому было удобно. Сидели в свободных позах, охватывая рояль полукругом, в котором оставался свободным лишь проход к инструменту для артиста.
Владимир Владимирович заставил подождать себя сверх назначенного времени. Как всегда, не глядя в публику, он быстро прошел к инструменту и без сборов сразу же заиграл. Программа концерта, о котором я говорю, была посвящена только произведениям Скрябина. Софроницкий играл вдохновенно, с непостижимым, порой загадочным мастерством, при котором музыка, словно возвращаясь к своему истоку, становится магией.
После концерта, когда я зашел в артистическую, Владимир Владимирович обрадованно пошел мне навстречу. Его удивило мое посещение. Увидев меня в публике, он, по его словам, был смущен и не сразу преодолел некоторую скованность. Он привык к тому, чтобы видеть на этих концертах всегда тот же круг адептов Скрябина и своих поклонников. Но потом ему стало приятно присутствие его старейшего, со студенческих лет благожелателя и игралось очень хорошо.
Тут же он пригласил меня к себе. Я был рад случаю побыть с ним и повидать, как он живет. Назавтра отправился к нему. Жил Софроницкий в новом доме на одной из окраин Москвы на тихой боковой улице, по которой не ходят ни трамваи, ни автобусы. Небольшие комнаты, очень скромно, чуть ли не убого обставленные, выглядели неуютно, — все говорило о полном равнодушии хозяев к комфорту, о безалаберной жизни художника.
Я застал у Владимира Владимировича, видимо, близкую ему компанию. Там были его вторая жена Валентина Николаевна, Генрих Густавович Нейгауз, Святослав Теофилович Рихтер, известный кинорежиссер Сергей Юткевич, не знакомый мне молодой поэт. Вечер прошел очень оживленно. Рихтер, по просьбе Софроницкого, играл, поэт читал свои стихи, Юткевич делился впечатлениями о заграничной поездке.
Не с легким сердцем простился я с ним, как оказалось — навсегда. Никогда больше не увижу я Софроницкого, никогда не переживу рождавшееся у меня при общении с ним чувство, в котором сливались и любовь старшего брата, и рядом — взволнованность, восхищение красотой и силой его художественной личности.
Софроницкий умолк навеки. Но мы живем в счастливый век, когда воспоминания об исполнителях остаются не только в памяти и рассказах их современников. Если восприятие звукозаписи и не равноценно восприятию живого исполнения, то все же она дает представление большее, чем фотография. И, слушая Софроницкого в грамзаписи, я погружаюсь в атмосферу тонкого, чистого и вдохновенного искусства и снова общаюсь с дорогим мне человеком и обаятельным художником.
Л. Н. Оборин
"Как музыкант он, конечно, относится к разряду гениально одарённых людей."
"Равных ему, откровенно говоря, я не встречал."
Л.Оборин
МОЕ АРТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ С В. В. СОФРОНИЦКИМ
Мое знакомство с исполнительским творчеством В. В. Софроницкого относится к двадцатым годам.
Однажды у Малого зала консерватории появилась афиша с неизвестной в то время фамилией пианиста Владимира Софроницкого. Правда, мне лично приходилось слышать от своих друзей-ленинградцев, что у профессора Л. В. Николаева есть изумительный ученик, восходящая звезда. К тому же его слышал Н. К. Метнер, который предсказывал ему большое будущее и вообще восторженно о нем отзывался. Он говорил, что пианист тяготеет к романтической музыке, любит Скрябина и, кстати, женат на дочери Скрябина — Елене Александровне.
Концерт оставил неизгладимое впечатление. Нельзя было не отметить сочетания внешней красоты с вдохновенной игрой. Софроницкий меня пленил своеобразием музыкального облика, до болезненности чутким проникновением в исполняемое. Это было подлинно музыкальное творчество, лишенное стремления произвести впечатление на публику: он весь был в образе, и это очень подкупало. Можно было соглашаться и не соглашаться с его интерпретацией, но игра его сильно увлекала, и в Москве он сразу же нашел аудиторию, которая его очень полюбила. Особенно запомнились в этот вечер Симфонические этюды Шумана, 24 прелюдии Шопена, Четвертая соната Скрябина.
Я пришел в артистическую, чтобы поздравить его, и мы познакомились.
Мы часто встречались с ним в Ленинграде. Во время одной из встреч, после небольшой беседы, он попросил меня что-нибудь сыграть. Я отказался, но он так настойчиво просил, что пришлось сесть за рояль. Я сыграл две сказки Метнера.
Мне было неудобно играть, так как рояль оказался очень тугим. Он, по-видимому, заметил это, рассмеялся и спросил:
- Что, неудобно играть?!
- Да, не очень! — сказал я.
- Это не мой рояль, прокатный!..
Вскоре в моей жизни произошло большое событие: я получил звание лауреата на Шопеновском конкурсе. И с этого времени мы стали еще чаще с ним встречаться. Подружились.
Владимир Владимирович был удивительно гостеприимным, обаятельным человеком, веселым, остроумным. Часто развлекал гостей фокусами.
Он увлекался поэзией, литературой, с юности поклонялся Блоку, мечтал познакомиться с ним. У него была большая интуиция, позволявшая безошибочно определять ценное в поэзии и литературе.
Как музыкант он, конечно, относится к разряду гениально одаренных людей. Иногда на концертах бывали просто необыкновенные «прозрения», всегда потрясало творческое начало в игре.
У нас был период, когда мы часто встречались. Очень памятен день, когда Владимир Владимирович потащил меня слушать, как он занимается. Рояля у него в ту пору не было, он ходил к каким-то знакомым. Я не хотел идти, не хотелось мешать занятиям. Но он был очень настойчив:
- Я всего полтора часа буду играть, — сказал он.
Его пальцам и памяти подчинялось огромное количество вещей. Равных ему, откровенно говоря, я не встречал.
В этот день он сыграл несколько сказок Метнера, «Крейслериану» Шумана, ряд произведений Листа. В «Мефисто-вальсе» у него не вышли «скачки» в репризе. Он повторил еще раз. Опять не вышло. После этого он вскочил, назвал себя «бездарностью», походил по комнате и опять стал играть. Ну, тут уже все идеально получилось! Вот так он «занимался». Это выглядело как концерт.
Однажды, во время одной из наших встреч, он мне сказал: «Знаешь, Лева, на свете много двухрояльной музыки, почему бы нам с тобой не поиграть?»
Я немножко побаивался его как ансамблиста, так как ансамблевую игру он не очень любил, не любил играть и с оркестром. Но опасения были напрасными. Он очень прислушивался ко мне как к партнеру.
Мы дали два концерта в Москве и Ленинграде '.
Играли Сонату D-dur Моцарта, «Белое и Черное» Дебюсси, Прелюдию и фугу Танеева, Вариации В-dur Шумана и другие произведения.
Вот в Вариациях Шумана у нас не было одинаковой манеры исполнения. Играли разными штрихами и тембрами.
Критика к нам отнеслась несочувственно. Было сказано, что играть нам вместе не следует, что мы совсем разные индивидуальности. И мы перестали заниматься ансамблем, но дружбу сохранили на долгие годы.
Я.И.Зак
"единство импровизационности, безукоризненного мастерства и глубины мышления — это главные черты творчества Софроницкого."
"Главным в его исполнительском облике были и окрыленность таланта, и мастерство, и владение изумительными тайнами педализации и сокровеннейшими звучаниями рояля."
Я.Зак
ВОСПОМИНАНИЯ О В. В. СОФРОНИЦКОМ
Знакомство с Владимиром Владимировичем Софроницким было одним из самых значительных событий моей жизни. Я много слушал его, беседовал с ним, восхищался его личностью. Его влияние на развитие и формирование моего артистического сознания чрезвычайно велико — настолько глубоко запало в душу каждое произведение, исполненное В. В. Софроницким.
Впервые я услышал его будучи еще мальчиком, в Одессе в 1925 году. В городе его тогда еще не знали. Появился он в тот период, когда одесситы бурно увлекались Владимиром Горовицем. Этот блистательный, феноменальный пианист безраздельно владел публикой, и, казалось, никто, кроме него, не существовал на концертных эстрадах, несмотря на то, что в городе выступали и местные, и приезжие музыканты... Но завороженная публика как бы не слышала никого другого, кроме своего любимца: она воспринимала всех остальных так, как если бы они (я позволю себе осовременить тогдашнее впечатление) выступали на экране телевизора с выключенным звуком.
И вот — заиграл Софроницкий. Он был услышан с первой же ноты. Он не ворвался, подобно буре или пламени, — его воздействие было каким-то «проникающим» и не поддаться ему было невозможно.
Стоило бы поглубже проанализировать сущность неотразимого обаяния искусства Софроницкого, но это должна быть специальная работа. Хочется, однако, заметить, что и сама публика — явление необычное: она как бы многострунна,- и способность ее к отклику, к контакту с артистом —беспредельна. Но все зависит от того, сумеет ли артист задеть нужную струну... Так было и здесь. Публика южного города — темпераментная, отдающая предпочтение искусству красочному, пылкому, сочному — сразу же была захвачена новым артистом, подчинилась его воле, выбору, вкусу... Она как бы приобрела свойственные ему черты — утонченность, даже рафинированность восприятия, чуткость, изысканность. И в этой атмосфере взаимной созвучности она с глубоким волнением и пониманием слушала, как знакомую, непривычную и неизвестную ей тогда музыку Скрябина (позднего).
У нас неохотно употребляют некоторые выражения и слова из-за их старомодности и отчасти из-за того, что они относятся к сфере давно изжитых представлений. Принято считать, что такие качества, как изысканность, духовный аристократизм в искусстве, — уводят в декаденство, в маленький мир ограниченных интимных переживаний. Но есть и другой духовный аристократизм, который приводит к большому, настоящему искусству. Это аристократизм, означающий благородство искусства, рыцарски-беззаветное служение ему. Это изыск, рожденный вдохновением и вкусом, изыск, в котором ювелирная законченность деталей подчинена высокой эстетической задаче. Именно таким было творчество Софроницкого. С этим согласится всякий, кто слышал его, кто помнит в его исполнении Поэму ор. 59, Загадку ор. 52 Скрябина или «Листок из альбома», и многие-многие другие сочинения в его исполнении, поражавшие изысканной утонченностью и проникновенной глубиной. Тончайшее rubato придавало его игре трепетное дыхание, высвечивание скрытых голосов порождало внезапные превращения и прихотливость мелодического узора. В каждом произведении открывался как бы целый мир воображения, поэтически одухотворенной фантазии. Эгон Петри, прослушавший одну из сонат Скрябина в исполнении Софроницкого, изумленно заметил: «Так я не умею!»
Любопытно, что несравненное исполнение В. Софроницким небольших произведений побудило некоторых музыкантов расценивать его преимущественно как «мастера миниатюры». Это глубокая ошибка, которую можно объяснить либо неспособностью этих музыкантов проникнуть в сущность творчества Софроницкого, либо мелочным нежеланием признать исключительный универсализм его дарования.
Да, он, разумеется, был мастером миниатюры, возможно даже не имел себе равных в этой области. Но не потому ли он достигал такого совершенства в миниатюрах, что был великим мастером в области всех музыкальных форм и в равной мере владел способностью охвата как мелких пространств миниатюры, так и больших просторов сложных, крупных произведений.
Ему удавалось в миниатюре выразить тончайшие характеристики, едва уловимые душевные движения. Но с не меньшим совершенством он в больших вещах повествовал о целых циклах жизни, бесконечно разнообразных эмоционально и глубоко осмысленных философски. Так звучали у него сонаты Листа, Шопена, Скрябина, «Карнавал», «Крейслериана» Шумана и — особенно — Фантазия Шумана. Мы все много слышали красивого Шумана. Софроницкий же играл прекрасного Шумана — возвышенного, вдохновенного и мудрого. Как-то мой друг (ныне покойный) замечательный пианист Э. Гроссман сказал, что ему настолько дорого исполнение Софроницким Фантазии Шумана, что другого, даже лучшего, он не хочет. Это была тонкая оценка.
Что же все-таки было главным в творчестве Софроницкого? Трудно сказать. Но вот его особенность: исполнять музыку так, как будто он сам сейчас у рояля сочиняет ее. На редкость вдохновенная импровизационность сочеталась со строгой конструктивностью, с логической и эмоциональной цельностью общего плана исполнения. И кажется, что единство импровизационности, безукоризненного мастерства и глубины мышления — это главные черты творчества Софроницкого.
Но не менее главной была и необычайная интенсивность переживаний, сообщавшая его игре взволнованность и выразительность. Однажды он сам после исполнения Сонаты b-moll Шонена. сказал: «Если так переживать, то больше ста раз я ее не сыграю».
А образность? Разве и она не была главной в его интерпретации музыки? Софроницкий играет F-dur’ный ноктюрн Шопена — и грозовые раскаты сотрясают воздух, зловещие молнии прорезают кромешную тьму душной летней ночи... Каждый звук — удар кисти живописца! Баркарола Шопена... В левой руке — чарующий пейзаж, всплески воды под ударами медленных весел, влажной свежестью напоен воздух... Кажется, что звуки возникают не под пальцами пианиста, а рождает их водная гладь... И на этом фоне — взволнованное звучание человеческой речи в правой руке; двое плывут в лодке, звенят их живые голоса... И наконец, торжество, радость, озарение, огромный эмоциональный накал апофеоза.
Это только примеры. Игра его была всегда образна — что бы он ни исполнял. Образность музыкальной речи придавала особую емкость любому произведению, которое он играл, — будь то миниатюра или сочинение крупной формы.
Главным в его исполнительском облике были и окрыленность таланта, и мастерство, и владение изумительными тайнами педализации и сокровеннейшими звучаниями рояля. Все было главным. Все вместе создавало невыразимое очарование, убедительность и силу исполнения, делало игру Софроницкого каким-то чудом.
Я не хочу в этих заметках вдаваться в профессиональный анализ творчества Софроницкого. Я рассказываю только о впечатлениях, которые оставило его искусство в моей памяти.
Мне хочется рассказать и о некоторых чертах его личности, хочется вспомнить о некоторых моментах своей жизни, которые дороги мне тем, что с ними был связан Софроницкий.
Вспоминаю Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей в 1935 году в Ленинграде. Софроницкий вовсе не был обязан присутствовать на нем. Но он был трогательно любопытен ко всему, что имело отношение к искусству. И он ежедневно приходил на конкурс, терпеливо и очень внимательно выслушивал многих, в том числе и малоинтересных пианистов. Истинный человек искусства — он искал и умел находить «настоящее» не только у признанных музыкантов. И, стоя в фойе в перерывах между выступлениями, он с увлечением говорит о «находках» в игре совсем молодого, подчас ничем еще о себе не заявившего пианиста.
Он был полон доброжелательного интереса к товарищам по искусству. Из-за плохого здоровья он редко мог посещать концерты, но слушал всё по радио и всегда откликался, если выступление ему нравилось. Как-то (это было очень давно) я играл на радио. Я даже не подозревал, что Софроницкий меня слушает. А он слушал и написал в связи с этим письмо Г. Г. Нейгаузу. Оно было проникнуто милым, сердечным вниманием старшего коллеги к младшему. Таким вниманием «младшие» у нас не избалованы и по сей день.
Софроницкий никогда не ходил в концерты в порядке представительства, никогда не умел и не хотел чувствовать себя «персоной». Он не приносил исполнителю формальных традиционных поздравлений в артистической, если не был удовлетворен его игрой. Но как искренне он радовался успеху исполнителя, кем бы он ни был — только начинающим или уже известным артистом! Как-то в одном из своих концертов Л. Оборин замечательно сыграл новые, необычные для него произведения. Софроницкий восхищенно удивлялся: «И откуда он все это знает?»
Он всегда был очень искренен. Искренне играл, искренне слушал... Соприкосновение его с музыкой было чрезвычайно непринужденным. Однажды на концерте Эгона Петри я сидел рядом с Софроницким и мог наблюдать его. Концерт был дневной, воскресный, праздничный. Сначала Софроницкому очень нравилась игра Петри и его лицо, глаза, поза выражали удовольствие, радостное удивление. Но потом Петри в чем-то оказался непонятным, чужим ему — его ощущению исполняемых произведений. И Софроницкий сразу как-то внутренне отдалился, как бы перестал присутствовать в зале. На лице его не отражалась ни скука, ни пренебрежение — он отсутствовал, хотя и сидел рядом со мной. Праздник для него исчез, а притворяться ни в жизни, ни в искусстве он не умел.
В поведении, в обращении с людьми, в своих суждениях он был самобытен — «не такой, как другие». Он всегда был естествен, абсолютно правдив, откровенен, открыт — и всегда неожидан.. Он неожиданно появлялся не потому, что хотел застать врасплох, о нет, а потому, что повиновался своим внутренним побуждениям,, душевным порывам, которые, однако, всегда находились на уровне высшего такта.
Вот одно из таких неожиданных и исключительно тонких по тактичности «появлений» Софроницкого. В 1938 году я давал концерт в Ленинграде. Уходя после первого отделения с эстрады, я буквально натолкнулся на Софроницкого. Он сидел на стуле за бархатным занавесом в тесном и душном пространстве кулис. Я подумал, что он устроился тут, чтобы незаметно уйти после первого отделения. Но он остался там до конца концерта. Трудно передать, как ценно было для меня его присутствие и внимание. После концерта я все же спросил его, почему он выбрал себе такое неудобное место. Он не ответил мне. Но потом я узнал, что он делает это сознательно, чтобы не отвлекать внимание публики, среди которой он был очень популярен.
Расскажу еще о некоторых встречах-экспромтах. Это было тоже в 1938 году, тоже в Ленинграде. После одного концерта ко мне в гостиницу пришел Софроницкий, по обыкновению, неожиданно. Он сразу, без лишних слов, сел за рояль и начал играть. Играл Шопена, Моцарта, Шумана... Потом сказал: «Заметили ли Вы, что я играл только оригиналы — не обработки? Я сейчас гулял и читал афиши концертов. Сплошь обработки: Бах — Бузони, Рамо — Годовский, Лист — Бузони, Шуберт — Лист и даже, — прибавил он уже в шутку, — Бизе — Бузони! Как будто Бах, Лист, Шуберт нуждаются в воскресителях!» И действительно, в тот период исполнители чрезмерно увлекались обработками, явно в ущерб оригинальным произведениям. «Давайте, — предложил Софроницкий, -организуем «лигу борьбы за оригиналы». Лозунг: везде играть только оригинальные сочинения, вернуть им их собственную жизнь! Ну, а после этого, — с улыбкой добавил он, — можно будет иногда поиграть и обработки».
Я начал отстаивать Бузони, защищая его от мнимых нападок Софроницкого — мнимых, потому что он высоко ценил прекрасные обработки, позволяющие извлечь из рояля весь потенциал его звучания и красок. Но он считал, что композиторам лучше сочинять новые произведения, чем пользоваться уже созданными, и исполнителям не следует забывать прелесть и очарование оригиналов. «Что вы защищаете от меня Бузони? — воскликнул он, — во-первых, многие его обработки я и сам играю (действительно, он очень любил и великолепно исполнял, например, хоральные прелюдии:
Баха — Бузони); во-вторых, — он озорно посмотрел на меня, — я ведь ему обязан: он когда-то подавал мне пальто!» И весело рассмеявшись, Софроницкий рассказал забавный случай из своего детства.
Маленьким мальчиком он учился в Варшаве у знаменитого Михаловского. Михаловский был в дружеских отношениях с Бузони и попросил его прослушать своего маленького ученика. В назначенное время Софроницкий явился к учителю, сыграл то, что было положено, и стал собираться домой. И тут Бузони подал малышу пальто и помог ему одеться.
...Еще встреча, и тоже в Ленинграде, после Варшавского конкурса имени Шопена в 1937 году. Ко мне в номер пришел Софроницкий и стал жаловаться на то, что с ним происходит что-то неладное. «Всю жизнь, — говорит он, — я отрицательно относился к конкурсам (считаю, что по сути своей они находятся вне сферы искусства), сам отказался от участия в первом Шопеновском конкурсе... и вдруг — сам сейчас заразился конкурсной атмосферой и почти непроизвольно целый день играю Шопена!»
Через месяц он выступил в Москве с шопеновской программой — Фантазией, Сонатой и другими произведениями. Какой это был концерт! Этого никогда не забыть!
Софроницкий был человеком живым, веселым. Было у него пристрастие, чисто детское, ко всяким головоломкам и забавам, требующим изощренной игры ума. Особенно увлекался он и, можно сказать, был виртуозом игры в палиндромоны — сложные словесные комбинации и словообразования. Думаю, что не подорву авторитета нашей кафедры, если расскажу, что нередко ее заседания завершались веселыми палиндромонами или шуточными магнитофонными монтажами, в которые вовлекал нас всех неистощимый на выдумку Софроницкий.
Он очень любил слово и умел радоваться ему. Однажды я встретил его бледного, изможденного и не мог не выразить беспокойства по поводу его болезненного состояния. Он дал мне пощупать пульс. Страшная аритмия. Я взволновался и предложил немедленно отвести его домой и немедленно уложить в постель. Он еще больше огорчился: «Ну да! Вот и доктор мне сказал, что если я немедленно не брошу работу, то усопну!» Это слово, неожиданно возникшее на его устах, так ему понравилось, что он развеселился и, с удовольствием смакуя его, как бы забыл о своей болезни.
Он был очень красив. Изящная фигура, благородное лицо с тонкими чеканными чертами почему-то ассоциировались у меня с медальоном. Надо сказать, что его искусство по отточенности и безупречно строгой красоте вызывало у меня такие же сравнения, о чем я ему как-то сказал, поздравляя его с очередным замечательным выступлением. Впоследствии он часто спрашивал меня после своих концертов: «Ну как — где я сегодня был, на земле или в медальоне?» Он весь искрился юмором, очаровательной меткой иронией, которую нередко обращал в свой адрес.
В начале Великой Отечественной войны Софроницкий участвовал в противопожарном отряде ПВХО при Ленинградской консерватории. Корреспондент «Правды» сфотографировал его в форме на крыше здания. Софроницкий дорожил этой фотографией, так как ему чрезвычайно приятно было сознавать себя одним из защитников Ленинграда, который он страстно любил. Он размножил это фото и роздал некоторым друзьям. И тут же, однако, не мог удержаться от того, чтобы не подшутить над самим собой, — на карточке, подаренной мне, имеется его надпись: «От брандмайора В. Софроницкого».
Упомянув о его горячей любви к Ленинграду, я хочу привести слышанную от него вдохновенную фразу, которая крайне точно выражала его чувство нерасторжимой связи с родным городом: «Если, — сказал он, — я воспроизведу все свои воспоминания о Ленинграде — то легко смогу, день за днем, вспомнить всю свою жизнь».
С особой нежностью думал он о военном Ленинграде — городе неслыханного героизма и испытаний. Через некоторое время после того, как Софроницкого, больного и крайне истощенного, привезли в Москву из блокированного Ленинграда, я отправился туда на концерты. Софроницкий дал мне массу дружеских советов насчет осторожкости и осмотрительности, передал посылки для своих друзей и на прощание сказал: «Я вам завидую! Вы будете в Ленинграде. Конечно, люди украшают город, но и опустевший Ленинград потрясет Вас своим немым величием».
Подлинный артист — он был полной противоположностью другой разновидности артистов, зачастую весьма одаренных людей, но не убереженных от соблазна выставить свой талант напоказ при случае и без него; в любых условиях видящих в искусстве прежде всего себя.
Совершенно иным был Софроницкий. В его творчестве ничто не шло напоказ, на потребу тщеславию, не было никакой косметики для завоевания большего успеха. Он был истинным служителем искусства. Он жил для него. Каждое выступление было для него данью высшим творческим обязательствам, вызревавшим в глубине его духа. К сожалению, такое отношение имело своим следствием редкие выступления. Играл он главным образом в Москве и Ленинграде. Но когда изредка приезжал в другие города, там наступал поистине праздник музыки. В один из таких его редких приездов в Киев я присутствовал на его концерте. Он так всколыхнул людей, что они долго не хотели уходить из зала, где соприкоснулись с подлинно великим искусством.
Как истинный артист, Софроницкий знал себе цену и был честолюбив в наилучшем смысле этого слова. Именно поэтому он был непримиримо самокритичен. К малейшим своим промахам и просчетам он был беспощаден и говорил о них сам, не боясь, что такая резкая его самокритика может стать оружием критики.
Был он беспощадно строг и к своим ученикам, работу с которыми воспринимал как форму своей собственной работы над произведением. Ученика он слушал с такой же взыскательностью, как самого себя. На экзаменах, конкурсах и других прослушиваниях он никогда не добивался для своих учеников повышенных оценок, он беспристрастно и сурово ставил им те отметки, которые, по его мнению, они заслужили. Как-то он «провалил» свою ученицу на одном из прослушиваний к очередному конкурсу. Потом он, по-своему справедливо, объяснил это: «Может быть, — сказал он,— она играла и не хуже других». Но других он слушал «партитурно», а ее как самого себя, с той же требовательностью, и с теми же упреками, которые предъявил бы самому себе.
Для него экзамен или прослушивание были не завершением работы над произведением, а лишь одним из моментов процесса овладевания материалом. И на экзамене он слушал своих учеников как на уроке, придирчиво отмечая малейшие недостатки игры. Милые молодые люди нередко сокрушались по поводу строгости своего учителя. Но все эти огорчения полностью искупались радостью тесного творческого общения с большим артистом.
Внешне Софроницкий казался хрупким, тепличным, болезненным. К сожалению, похвастаться здоровьем он не мог. Но болезнь не расслабляла, а скорей укрепляла его дух, как бы шла на пользу его искусству. Я помню концерт, который он давал, будучи совершенно больным. После каждой пьесы он уходил с эстрады и пил сердечные капли. Но исполнение его в тот вечер было еще более волевым, еще более устремленным, чем обычно. Сильным своим духом он побеждал свою болезнь. Да, он был силен духом и непреклонен, когда дело касалось больших принципиальных обстоятельств. Он оставался в Ленинграде, в блокаде жестоко страдал от голода и холода, наравне со всеми подвергался смертельным опасностям и продолжал работать с огромным напряжением, не делая себе никаких скидок на трудности. Привезенный в последней степени истощения в Москву весной 1942 года, он, едва подкрепившись, набросился на работу. Он много выступал, причем тоже в труднейших условиях — в нетопленых залах, где публика сидела в шубах, а он играл во фраке и в перчатках с подрезанными пальцами.
Таково было отношение Софроницкого — предельно серьезное и взыскательное — к своему общественному долгу, к своей миссии в искусстве, которому он свято служил всю свою жизнь.
Д. А. Башкиров
НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Среди художественных впечатлений пятидесятых годов (а именно тогда я начал учиться в Москве) мало можно назвать явлений культурной жизни, которые оставили бы такой ярчайший след, как концерты Владимира Владимировича Софроницкого. Это выступления в Большом зале консерватории, но чаще — концерты в Малом зале, зале Дома ученых и любимом Софроницким Музее А. Н. Скрябина.
Словно сейчас вижу полутемный коридорчик музея и среди поклонников Владимира Владимировича, слушающих, как он играет В-dur'ную сонату Шуберта, примостившегося где-то в уголке Г. Г. Нейгауза... Критика наша часто пользуется в своих оценках понятиями: нельзя или можно простить, не полностью отразил-выразил, досадные помарки, неровность, нервность и т. д. Не избежал таких «школярских» оценок и Владимир Владимирович. Как меня коробили такие отзывы, которые в основу свою брали не главное, а детали. Именно выступления Софроницкого никогда не должны были вызывать желание вести «бухгалтерский» учет достоинств и недостатков.
Часто мы слышим прекрасных мастеров, блестяще играющих, рояль у них отлично звучит, фраза продумана и прочувствована от и до, но воспоминание об их выступлениях мгновенно стирается в нашей душе. С выступлениями Софроницкого было совсем иначе.
На его концерты мы шли, надеясь услышать нечто необыкновенное, то, чего не услышим никогда и ни от кого больше — в том числе от самого Софроницкого (ибо он был неповторим в каждом своем выступлении). Иногда это «нечто» проступало уже в начале концерта, иногда приходило только в конце программы, но и тогда, право же, несколько бисов стоили многих и многих образцовых клавирабендов. Мы внимали художнику-творцу, единственному в своем вдохновении.
Разве можно забыть в его исполнении Сонату ор. 111 Бетховена, «Симфонические этюды» и «Карнавал» Шумана, песни Шуберта— Листа («Мельник и ручей»!), пьесы Листа, Прокофьева, прелюдии Рахманинова, Скрябина (всего Скрябина!) и многое, многое другое.
В последние годы Владимир Владимирович часто болел и не всегда мог выразить себя на сцене до конца свободно. Люди, которые шли ради любопытства послушать «разок» Софроницкого, возобновить старые впечатления или впервые приобщиться к его искусству, могли попасть и на гениальный концерт, и на неудачное выступление. Но тем, кто был предан ему и старался не пропускать его выступлений, Владимир Владимирович дарил такие взлеты своей фантазии художника, каким трудно найти сравнимое в исполнительстве — скорее надо обратиться к живописи, скульптуре, поэзии.
Если считать, что одни выдающиеся пианисты в основном пользуются чисто фортепианной звучностью (А. Рубинштейн), другие берут за основу оркестровые краски (Ф. Бузони), а третьи совмещают и то, и другое (С. Рихтер), то рояль у Софроницкого звучал, как совершенно особый многотембровый инструмент, словно созданный им самим и ему лишь подвластный. Настройщики рассказывали, что Владимир Владимирович просил делать звучание резким, с металлическим призвуком настолько, что другие пианисты просто не смогли бы с ним управиться. Под пальцами же Владимира Владимировича рояль звучал сказочно. Особое прикосновение к клавишам, колдовство педализации — тайны, которые Софроницкий унес с собой, придавали звучанию неслыханное обертоновое богатство. Пианистическое мастерство Владимира Владимировича бывало просто невероятным, хотя, глядя на его руки, иногда казалось, что играть ему, должно быть, трудно, особенно массивную фактуру.
Прекрасно сознавая исключительность своего дарования, Владимир Владимирович на сцене и за сценой держался скромно, даже стесненно. Его, как бы не артистический, выход на эстраду
(напряженность в медленной походке, сжатые вместе ладони рук, отрешенное выражение лица без тени улыбки) создавали между тем гипнотическую связь с публикой.
А манера посадки во время игры — аскетическая, почти недвижная, в таком контрасте с полной напряжения и темперамента игрой — завораживала.
Художник легко ранимый, Владимир Владимирович чутко и иногда болезненно относился к реакции зала, хотя никогда этого не показывал публике. Помню один из концертов в Доме ученых. Все первое отделение Владимир Владимирович играл чудесно, особенно Сонату fis-moll Шумана. Казалось, что он явно в настроении. В антракте его близкие стали разыскивать знакомых музыкантов, в том числе меня, — мы должны срочно зайти в артистическую: Владимиру Владимировичу кажется, что публика не понимает его, нет должной отдачи, у него пропало настроение, играть дальше не хочет... Наши искренние восторги сняли напряжение и волшебство продолжалось...
Как теперь я жалею, что из-за моей робости знакомство с Владимиром Владимировичем ограничивалось артистической комнатой — ведь он сам говорил, что не раз слушал мои выступления по радио (концертов он последние годы жизни не посещал).
Еще одно воспоминание. В Малом зале идет вечер класса Владимира Владимировича. Взбегаю по лестнице и вижу: перед входом в зал, под мраморными досками отличия сидит Софроницкий — бледный, осунувшийся. Он так волнуется, что не в силах находиться в зале, слушает за дверью.
Ученики Владимира Владимировича рассказывают, как интересно и терпеливо работал он с ними. И все же мне кажется, что весь облик Софроницкого-художника не вполне совмещался с понятием педагога в обычном смысле этого слова. Воспитывать день ото дня, год от года студентов, не всегда выдающейся одаренности, для такого «избранного» как Владимир Владимирович было, вероятно, мучительной задачей. Как было бы прекрасно, если бы он вел, например, время от времени специальные курсы художественного мастерства, вдохновляя своим видением музыки наиболее талантливую молодежь...
Сейчас мы свидетели того, как имя Софроницкого становится известным, я бы сказал, легендарным, во всем музыкальном мире.
Недавняя история исполнительства знает замечательных мастеров, подобно Владимиру Владимировичу, почти не выступавших за пределами своей страны и по складу своей натуры не таких стабильных, как иные артисты признанного мирового стандарта. Так же, как мы считаем Владимира Владимировича непревзойденным исполнителем музыки Скрябина, в Германии чтут замечательного «шубертианца» Эдуарда Эрдмана, а во Франции вспоминают пианиста и педагога Ива Ната. Владимир Владимирович был при жизни нашим узконациональным сокровищем, хотя во всем мире было мало равных ему по силе и оригинальности дарования.
Теперь мир знакомится с записями его игры. Многие из них производят почти такое же магическое впечатление, какое оставляли лучшие выступления Владимира Владимировича. Иные, сделанные во время концертов, когда Владимир Владимирович был не в духе, или большинство «вымученных» студийных (которых Владимир Владимирович за редким исключением не терпел) способны лишь разочаровать несведующих. Надо ли выпускать широким тиражом все сохранившиеся записи Софроницкого — такой же спорный вопрос, как правомерность включения, скажем, в собрание сочинений выдающегося писателя некоторых его неудачных произведений, которых он и сам, кстати, не хотел публиковать (вспомним хотя бы дискуссию, возникшую в свое время по поводу издания всех сочинений А. П. Чехова).
А сколько исполнительских шедевров Владимира Владимировича вообще не записано — таких как «Блуждающие огни» (не этюд, а зловеще мерцающие, призрачные огоньки), «Исламей», Вторая рапсодия Листа и без всякой «ретуши» «а lа Горовиц» (великолепной в своем роде), производившая необычайно красочное впечатление.
Подражать Софроницкому, как это пытаются делать некоторые молодые пианисты, задача бесполезная. Мир его идей и чувств, так же как и способы их воплощения, — уникальны. Но все те, кому дорого живое исполнительство, яркая лепка музыкальной фразы, обостренный драматизм и контрастность образов, кто слышит и ищет созвучья красок, — всегда будут вдохновляться возвышенным и мужественным искусством Владимира Владимировича Софроницкого.
Л.Н.Берман
ВСТРЕЧИ с В.В.СОФРОНИЦКИМ
Впервые о Владимире Владимировиче Софроницком я узнал со слов моей матери, А. Л. Маховер, которая училась с ним в одно время в Петербургской консерватории. Основное, что ей запомнилось в молодом Владимире Владимировиче, — это его скромность. Она была свидетельницей того, как он в одном из концертов попросил у публики разрешения повторить превосходно сыгранный и имевший большой успех экспромт Шопена, который он, по его мнению, сыграл неудачно. Рассказывала она мне и о разговоре с Владимиром Владимировичем в коридоре консерватории. Она восхищенно говорила ему, как он хорошо играет. Он сначала ничего не сказал, а потом проговорил: «Разве я действительно хорошо играю?»
Впервые на концерты Владимира Владимировича я попал в конце войны. С самого начала его игра и атмосфера в зале (обычно это был Большой зал консерватории) произвели на меня неизгладимое впечатление. Знакомство мое с Владимиром Владимировичем произошло в 1955 году. Я осмелился прийти к нему в артистическую после концерта и поблагодарить его. Оказалось, что он знает обо мне, слышал по радио. Он очень тепло говорил со мною, и когда я «на авось» попросил разрешение поиграть ему, он сразу же согласился. Так я и очутился у него в квартире. Он был один. Уже были весенние дни, и мы стояли у открытого балкона. Он предложил подождать прихода Валентины Николаевны, чтобы потом не прерывать игры для открывания входной двери. Я еще не знал, кто это Валентина Николаевна, и решил почему-то, что это Валентина Николаевна Макаренко — секретарь фортепианного факультета консерватории. Это можно было подумать, так как Владимир Владимирович был профессором консерватории. Все же это предположение удивило меня и я спросил: «Зачем она придет?» Владимир Владимирович не ожидал такого вопроса и после паузы проговорил: «Как это зачем?.. Надо...» Я, все еще находясь на своей точке зрения, сказал, что она вполне могла бы позвонить по телефону, вместо того чтобы приходить. На это Владимир Владимирович уже ничего не ответил... Только в метро, по дороге домой, я понял истину...
Играл я тогда «Карнавал» Шумана. Кроме «Карнавала», позже, я показывал Владимиру Владимировичу «Чакону» Баха -Бузони, h-moll'ную сонату и «Блуждающие огни» Листа, Восьмую сонату и Токкату Прокофьева, «Ундину» Равеля. Обычно Владимир Владимирович слушал, сидя на диване справа от рояла. Всегда просил ноты и следил; даже сочинения, которые он прекрасно знал, он всегда проверял по нотам. Никогда не прерывал. Всегда после прослушивания говорил свое основное впечатление, вполне определенное, хотя отдельные, даже многие детали вызывали противоположную оценку. Так он похвалил сонату Листа, «Ундину» и «Чакону», хотя некоторые детали исполнения ему не понравились. И наоборот. Ему многое понравилось в «Карнавале», но в целом он меня разругал. Впрочем, разругал, это не то слово. Исключительная деликатность Владимира Владимировича проявлялась и здесь. Самое резкое суждение он умел высказывать в дружеской форме и всегда вселял уверенность на успех в будущем. В своих указаниях он чтил авторский текст, но постоянно старался пробудить творческую фантазию. Как-то он даже сказал: «Здесь надо что-то придумать». Он считал, что всегда в авторском тексте можно сделать много находок. Особенно часто он делал такие находки в полифонической структуре произведения, указывая на какой-то голос, который буквально преображал исполнение. Другое его требование — это полноценность каждого звука и предельная выразительность мелодии. Тонкость педализации также всегда привлекала внимание Владимира Владимировича. Здесь он порою бывал даже педантичен, но всегда справедлив. Обычно его указания касались деталей исполнения. Общий же замысел он никогда не советовал изменять, даже когда, как я чувствовал, он не был согласен с ним. Может быть, и здесь проявлялась его деликатность: ведь я учился у другого профессора и Владимир Владимирович не хотел вмешиваться в «кардинальные вопросы».
Он часто сам садился за рояль и играл отдельные места.
Больше всего в моем исполнении ему понравилась «Фантазия» Скрябина. Зная, как он сам играет и знает Скрябина, я был счастлив его оценкой.
Но «учиться у Софроницкого» — это не только получать его указания и играть ему, а вообще общаться с ним.
Его скромность проявлялась всегда. Разница в возрасте и даже в исполнительском уровне как-то исчезала. Это всегда был товарищ и друг, который не только давал советы, но и сам советовался, например, в выборе программы очередного концерта. Программы, кстати, он составлял всегда с большим вкусом и строгостью, выдерживая не только стилевую, но и тональную гармонию исполняемых рядом сочинений. Не раз помогал он и мне составить программы сольных концертов, а однажды, когда я позвонил ему по просьбе пианистки Г. Мирвис, он помог и ей, дав очень ценный совет.
Владимир Владимирович, будучи исключительно самобытным исполнителем, черпал эту самобытность только в самой музыке. Он не переносил «внешнее оригинальничание» некоторых пианистов. Он не раз говорил, что все должно быть предельно просто. Вот этот редкий синтез исключительной художественной оригинальности, постоянных поисков нового с предельной ясностью и искренней простотой, пожалуй, одно из неповторимых качеств Владимира Владимировича.
Помимо музицирования мы просто «весело проводили время». Владимир Владимирович всегда любил шутку, веселые истории. Сам с увлечением их рассказывал, сохраняя при этом удивительную невозмутимость. Я не помню, чтобы он смеялся, но в то же время в улыбке, трогавшей его губы, в выражении глаз всегда чувствовалось, когда ему хорошо и весело. Часто он бывал по-детски непосредствен. Так, например, он любил слушать, как я пародирую репортаж Синявского о футбольном матче. Однажды он-даже записал это на магнитофон. А потом перед моим уходом попросил меня никому об этом не рассказывать. «У меня будут завтра гости, и я скажу им, что это я себя записал...» Владимир Владимирович умел находить курьезные стороны там, где их никто не замечал. Как-то он сказал мне: «Не правда ли, как странно, что есть певец с фамилией Пищаев, чтец с фамилией Першин, пианист с фамилией Стучевский...»
Владимир Владимирович любил декламацию. Его необычайно выразительный голос передавал все оттенки речи. Однажды Владимир Владимирович предложил мне сделать запись на магнитофоне. Это была рецензия из какой-то старой газеты, кажется, на концерт Листа в России (или Антона Рубинштейна). Статья была написана очень возвышенным слогом и обладала множеством романтических сравнений. Владимир Владимирович читал ее, а мне предложил в это время играть что-нибудь очень виртуозное, так как статья была в основном посвящена виртуозным качествам артиста. Мы выбрали «Дикую охоту» Листа. Владимир Владимирович долго репетировал со мною, добиваясь того, чтобы музыка по возможности соответствовала тексту. Потом сделали запись, вернее даже несколько вариантов. Помню, Владимир Владимирович совсем замучил меня — то одно, то другое его не удовлетворяло, зато как он был рад, когда, наконец, все получилось хорошо!
Помню, 30 сентября 1959 года поздно вечером раздался звонок телефона. «Здравствуйте, это Софроницкий. У вас есть сегодняшняя газета? Прочтите программу радиопередач повнимательнее». Действительно газета извещала, что по третьей программе в 22 часа 30 минут будет передаваться камерная музыка Гайдна в исполнении Моцарта. Я чувствовал, что Владимир Владимирович ждет с нетерпением моей реакции... Потом он сказал: «Теперь звоните своим знакомым, а я буду продолжать звонить своим».
Любил Владимир Владимирович сочинять фразы-перевертыши, когда справа налево и слева направо фраза читается одинаково. Особенно он гордился двумя: «Велик Оборин, он и робок и Лев», возмущенно говорил, что некоторые приписывают создание этой фразы Г. Г. Нейгаузу, тогда как на самом деле автор он. Первым же его созданием было: «Сенсация, поп яйца снес». Потом он хитро улыбнулся и сказал: «вместо поп можно написать Регер». Вообще имя Регера, по-моему, было для Владимира Владимировича эталоном музыкальной схоластики, глубоко чуждой ему. «Это музыка для немцев, которые никогда не поймут по-настоящему русскую музыку», — сказал он мне однажды.
Владимир Владимирович любил, когда я приносил ему пластинки. Вместе мы слушали Сонату h-moll Шопена в исполнении А. Корто, «Карнавал» Шумана и шесть музыкальных моментов Шуберта в исполнении В. Гизекинга. Записи нефортепианной музыки почему-то слушать не хотел. Запись Корто в целом понравилась, кроме, правда, первой части, где было много надуманного.
Восторгался Владимир Владимирович «Музыкальными моментами» Шуберта, которые просил принести еще раз.
О своих записях Владимир Владимирович часто отзывался резко и не любил их. Был очень недоволен появлением пластинки с записью Третьей и Девятой сонат Скрябина, считая качество записи очень плохим. К сожалению, он не услышал уже свои более поздние записи, которые были гораздо лучше по своему качеству.
Мое общение с Владимиром Владимировичем происходило в период, когда он на время оставил концертную эстраду и выступал только в Музее Скрябина. Не буду здесь рассказывать подробно о той волнующей и неповторимой по художественному наслаждению атмосфере, царившей в эти вечера в музее. Об этом могут лучше рассказать другие. Владимир Владимирович извещал меня о каждом концерте по телефону. Впрочем, бывали случаи, когда он звонил и просил не приходить на концерт, так как он не чувствует себя в форме. После концерта (это бывало и позже, когда он снова начал выступать в концертных залах) Владимир Владимирович не любил ограничиваться приемом традиционных поздравлений и благодарностей, что, кстати, делалось всеми и всегда от всего сердца и с большой искренностью. Он всегда что-то говорил о том, как он играл в этот вечер, указывая на то, что ему понравилось, и на то, что совсем не понравилось. К своему исполнению он относился всегда очень строго и принципиально и никогда не скрывал этого от других.
Владимир Владимирович глубоко переживал свою болезнь, не дававшую ему играть где-либо, помимо Москвы. Очень хотел он выехать играть за рубеж и все время надеялся, что здоровье, наконец, позволит ему это сделать.
Владимир Владимирович был исключительно внимательным к другим людям, он любил людей. В период своей семейной драмы он мне сказал по телефону: «Вы ведь знаете, наверное, что мы с Валечкой разошлись» и тут же добавил: «Но мы остались друзьями». Всегда в десять часов вечера музыка у Владимира Владимировича прекращалась, так как он не хотел мешать жителям соседней квартиры. Владимир Владимирович не скрывал, что занимается много, говорил, что любит играть вечером либо в полумраке, либо при очень ярком свете лампы.
Летом Владимир Владимирович, к сожалению, почти никогда не выезжал из Москвы. Одно лето он, правда, провел в каком-то доме отдыха. Потом рассказывал мне, что чувствовал там себя плохо, утром просто страдал, когда аккордеонист ходил под окнами и своей музыкой вызывал отдыхающих на зарядку.
Никогда не посещая концертов, Владимир Владимирович все же был в курсе концертной жизни Москвы, слушая все интересовавшие его радиопередачи и трансляции. Его суждения об игре наших пианистов (разных поколений) всегда были очень содержательны и интересны.
В последние годы жизни Владимира Владимировича я не бывал у него, но мы перезванивались по телефону и встречались после концертов в артистической. И каждый раз Владимир Владимирович говорил, что после его выздоровления мы обязательно возобновим наши встречи и что я должен сыграть ему Сонату fis-moll Шумана.
Увы, этого не произошло, но и те немногие встречи с Владимиром Владимировичем, которые мне посчастливилось иметь, навсегда запечатлелись в моем сердце.
http://sofronitsky.narod.ru/Livres.htm